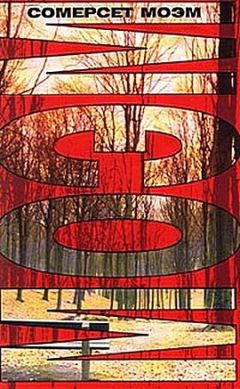Страх пронизал сердце Урнаса, дубина выпала у него из рук, и грудь с грудью он схватился с медведем врукопашную. Медведь горячо дышит ему в лицо и норовит переломить ему хребет, но Урнас вцепился в его пасть, напрягая все силы, и разорвал ее, словно расколол дерево клином. По всему бору расходится рев умирающего медведя, но, падая, зверь увлекает на землю и Урнаса. Урнас слышит, как все тише и тише хрипит зверь, и видит его темную кровь, окрасившую зелень посевов.
Устал Урнас, разгорячился и, отдыхая, лежит рядом со своей жертвой на мягкой зелени, и видит звезды в вышине, и слышит соловьиную трель.
Засыпает он, в изнеможении охватив руками свое зеленое поле, засыпает без сновидений, крепким, вечным сном.
1940
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ
КАВАЛЬКАДА[80]
Я ездил изучать эйлаги — летние пастбища: меня очень интересовала жизнь чабанов. Вдосталь наговорившись с пастухами, наглядевшись на бесчисленные отары, до одури нанюхавшись дыма кочевых костров, искусанный блохами, которые неистребимо живут во всех кошмах пастушеских юрт, нагонявшись по пастбищам, я направился через высокогорные луга на север, чтобы отдохнуть после всех странствий в гостеприимной долине Самура.
Сначала я ехал в сопровождении только одного чабана, который вызвался проводить меня до ближайшего аула. Потом мы нагнали двух всадников и на следующий день ехали уже все вместе.
Один из всадников был плотный пожилой человек в очень вытертой шерстяной куртке, похожей на охотничью, с большими карманами. Фуражка его была надвинута на лоб. Вид он имел очень серьезный. Загорелый до черноты, с жесткими подстриженными усами, немногоречивый, он сидел в седле, как заправский горец.
Звали его Терентьев. Он работал ирригатором. Кавказ он изъездил вдоль и поперек. С таким спутником путешествовать не скучно.
Он может объяснить вам любое природное или бытовое явление, да еще с обязательным воспоминанием из собственного опыта. Правда, мы часто переходили на рысь, и рассказ невольно прерывался.
Рядом с ним скакал насмешливый молодой человек, которого он называл просто Сафар. Этот горец, отказавшийся от горской одежды, и променявший ее на пиджак и брюки, заправленные в высокие сапоги, за исключением случая, когда он заговорил о том, что ему не удалось стать металлургом, а пришлось стать зоотехником, — и тут лицо его потемнело и глаза сделались печальными, — повторяю, за исключением этого случая, был вполне жизнерадостный и очень хвастал своим белым в серых яблоках конем.
На одной стоянке к нам присоединился пятый спутник — усталый милиционер, обросший рыжей бородой. Он возвращался из командировки в зимние коши, куда ездил по делу о похищении лошади у одного колхозника. Дело с лошадью запуталось, к тому же он простудился, чувствовал себя неважно и, громко кашляя, изредка разражался проклятьями по адресу хитрого конокрада. В остальное время он курил папиросы и молча отгонял нагайкой слепней от громадной головы ужасно худого мерина, на котором ехал, погрузившись в свои милицейские раздумья.
Луга в этих местах, можно сказать, вознесены прямо к небу: так высоко они расположены. Трава на них разной величины. То она достигала всего нескольких вершков высоты; то она доходила до колен лошади; то вставала выше головы всадника, и, вытянув руку, вы не доставали до ее верха. Пахли эти луга необъяснимо хорошо, и жар горного солнца умерялся внезапными порывами ветерка со снежных вершин, стоявших неподалеку.
Через несколько часов пути мы перешли на хорошо убитую тропу, которая привела нас в долину, полную прелести. Мы пустили коней шагом среди зеленых ковров, разостланных до самого подножия каменных осыпей. Над ними поднимались желтые и красноватые скалы. Эти скалы были так изрезаны выступами самой необыкновенной формы, что смотреть на них доставляло какое-то мучительное удовольствие. Игра света и тени в их изломах каждую минуту создавала профили небывалых красавиц или уродов, неведомых зверей и великанов или просто ваших хороших знакомых. Все ваши мысли вы могли найти осуществленными в этой каменной комедии масок, передразнивающей ваше воображение самым насмешливым образом.
Можно было часами длить эту игру, и глаз не уставал — так разнообразны и естественны были эти смены. Легко очерченные в голубом небе красноватые камни теплого телесного топа сообщали возникающим призракам тревожную жизненность, будто здесь вы действительно приблизились к новой природе, такой, какую вы никогда не думали увидеть, и она была много сильнее и прекраснее той, к которой вы привыкли и к которой стали давно равнодушны.
Мягкие широкие тени узорно ложились на зеленые ковры трав и сбегали к обрывам лугов, где далеко внизу блестела речка, шум которой не долетал до нас.
Мною овладело какое-то тревожное и необъяснимое ощущение, сходное с тем, которое является в тот час, когда вы хватаете перо и начинаете непонятно зачем писать стихи.
Надо мной сиял голубой жаркий день, с высоким небом, со снежными вершинами, с необъятными далями, и в памяти неожиданно возник стих, не имеющий ко всему этому никакого отношения. Будто кто-то нашептывал мне в уши, как воспоминание, как напоминание о чем-то давнем:
Окончен труд дневных работ…
Окончен труд дневных работ…
Окончен труд дневных работ…[81]
Я повторял как одержимый без конца эту строку, безотчетно и бездумно бормотал этот стих. Лошадь моя шла шагом, помахивая гривой. В общем звоне стремян, скрипе седел и похрапывании коней явился мне еще один стих, никак не связанный с первым:
Вечерним выстрелам внимаю…
Никаких выстрелов слышно не было. Все было тихо в этой дружеской долине, все было мирно, и только эти две строки, как будто прилетевшие из глубины скал или рожденные блеском далекой реки и одуряющим запахом лугов, звучали в моей голове.
Я не мог вспомнить ни того, чьи эти строки, ни того, какая связь между ними. Мне хотелось движения яростного, захватывающего дух. Я ударил коня камчой, и он рванулся из кавалькады, выскочил вперед и, прижав уши, закусывая трензельные кольца, помчался галопом. Не успел я еще хватить хороший глоток воздуха и услышать своеобразный свист в ушах, сопутствующий галопу, как увидел храпящую морду с широко открытыми глазами. Это был конь Сафара.
Сафар мгновенно догнал меня, и теперь мы мчались, далеко оставив позади своих спутников. В такой скачке есть большая прелесть. Это веселое занятие. Надо сказать, что оно небезопасно, так как в траве горных лугов много камней, и неизвестно, что вас ждет за поворотом тропы. Один раз мы сорвались прямо в ручей, и, тяжело дыша, мой конь, ударив в меня столбом воды, перелетел на другой берег, и за ним посыпались камни; другой раз мы чуть не залетели в болото, но прекращать скачку не хотелось…
Я оглянулся. За нами скакали Терентьев и чабан, и даже старый конь милиционера, вспомнив былые времена, догонял нас изо всех сил. Горные лошади не терпят, когда перед ними скачут. Они обязательно бросаются в состязание, даже вопреки воле их наездников, и стоит большого труда их успокоить.
Так мы скакали, опьяняясь быстротой. Бока коней стали мокрыми и храп — тяжелым. Я скакал, слегка пригнувшись к шее коня и плотно прижав ноги к его жарким бокам, и передо мной, как нарисованные, летели строки, которые я шептал сухими губами: «Окончен труд дневных работ… вечерним выстрелам внимаю».
Они сливались с ритмом галопа и как будто даже ускоряли его. Причудливые скалы мелькали с правой стороны, то приближаясь к нам, то отдаляясь.
Наконец мы перевели лошадей на рысь, потом на шаг и несколько минут ехали молча. Кавалькада соединилась снова. Тревога, невесть откуда явившаяся, была как бы разогнана скачкой.
Терентьев, вытирая лоб большим синим платком, сказал с упреком:
— Зачем, скажите, такая скачка? Лошадей гоните зря… Было бы дело. А все ты, Сафар, — добавил он, по-видимому, из вежливости, так как не мог не видеть, что я первый затеял эту гонку.
Сафар плюнул, почесал камчой бок и засмеялся:
— Ты же старый, ты не азартный человек, что ты понимаешь?.. Зачем тебе скакать — ты практический человек…
— А ты — азиат, — сказал строго Терентьев.
— Знаешь, по-нашему, по-лезгински, что значит слово «азиат»? Азиат значит: трудно, а мы хотим легко жить. Эх, ударил, пошел. — И он шутя взмахнул камчой.
— В галопе, — сказал я примирительно, — есть сущая необходимость. И по-военному обязательно полагается на походе изредка переходить на галоп. Коням нужно встряхнуться, освежиться…
— Да, если бы так, — отвечал уклончиво Терентьев, — в армии кони другие.
Он заставил своего коня идти со мной рядом. И вдруг лукаво улыбнулся и показал мне куда-то в сторону, на срез одной горушки.