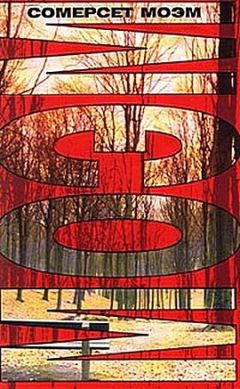— Да, если бы так, — отвечал уклончиво Терентьев, — в армии кони другие.
Он заставил своего коня идти со мной рядом. И вдруг лукаво улыбнулся и показал мне куда-то в сторону, на срез одной горушки.
Тут луга спускались к речке террасами, и множество тонких тропинок пересекало их. Это были тропы, по которым стада спускались на водопой.
— Посмотрите вон туда, влево от большого камня, видите собаку?..
Я сложил щитком ладонь и огляделся. Действительно, я увидел собаку — типичную горскую овчарку, которая то подымалась свободно вверх по откосу, то ложилась на землю и ползла вдоль троны, ниже ее, то снова бежала стремительно вверх и снова ложилась на землю и лежала неподвижно.
— Почему это так? — спросил я.
— А теперь посмотрите выше и правей от камня, — сказал Терентьев. И там, куда он указывал, я увидел длинное серое пятно. Я разобрал, что это движется стадо. Впереди его шел, как полагается, козел, за ним семенили козы, за ними, тесня друг друга, катились серые клубки отары.
Посох пастуха раскачивался над нею. Псы бежали по сторонам, выше и ниже стада, отгоняя от обрыва овец; иные псы шли впереди, останавливались и нюхали воздух, пропускали мимо себя стадо и снова бежали вперед.
Теперь одинокая собака, оказавшаяся на пути отары, предпринимала очень сложные ходы для того, чтобы не попасться на глаза чужим псам.
Она заворачивала против ветра, отлеживалась за камнями и, высунув голову, следила за приближением врагов. Наконец, решив, что ее расчеты правильны до конца, она одним прыжком пересекла тропу перед носом у остановившихся в удивлении псов и взобралась на следующий пригорок раньше, чем они успели броситься ей наперерез.
Они подняли отчаянный лай, вой и визг, но собака уже шла, потряхивая хвостом, и даже не оглядывалась.
— Видели? — сказал Терентьев. — Она ходила пить в одиночку. Попадись она этим собакам чужого стада — клочьев бы от нее не осталось. А занимательно, как она шла, правда? Иные из этих псов один на одни на волка ходят. Раз меня чуть с лошади не стащили, насилу отбился. — Он помолчал и без всякого перехода сказал: — Здесь, в горах, многое еще во власти инстинкта. Меняют горцы одежду на городскую, кинжал перестают носить, — уж очень глуп при пиджаке кинжал, а у них врожденное чувство вкуса, — так они к пиджаку финский ножик приобретают…
Я слушал его очень рассеянно, припоминая, чьи же это строчки: «Вечерним выстрелам внимаю… окончен труд дневных работ…» Всадники говорили по-лезгински. Чабан хохотал, откидываясь в седле. Сафар самодовольно усмехался, и даже на лице милиционера мелькнула тень оживления.
Я слышал какое-то имя, повторявшееся чабаном, после которого все смеялись. Мне послышалось, как будто говорили: «Айше, Айше», — но я не был уверен.
— Возьмите Сафара, — говорил Терентьев, затягиваясь махоркой из глиняной трубочки с вишневым мундштуком, — порывистый молодой человек, в два счета шею сломает, недосмотри за ним, я его с юности знаю… Я ведь тут все горы облазил…
Но я перебил его, спросив: кто это Айше, о ком они говорят? Он посмотрел на меня несколько удивленно и, прислушавшись к общему разговору, сказал:
— Чабан издевается над Сафаром, что в ауле, куда мы едем, есть девица одна, Айше, — сохнет по Сафару, за других не идет, ни с кем не гуляет; а ему мать какую-то косоглазую невесту подсватала в Мискинджи, а он гуляет, как дикий козел, где вздумается. Так они про него рассказывают анекдоты, самые, извиняюсь непереводимые…
День уже склонялся к вечеру, когда мы подъехали к большому аулу, где должны были ночевать. Но погода, вообще капризная в горах, испортилась так неожиданно, что вместо аула мы увидели огромное серое облако, закрывшее все дома плотной серой завесой. Ничего нельзя было разобрать, и мы двигались, как в молоке.
Из облака то там, то тут выступали столбы, поддерживавшие галереи у дома, кусок крыши, каменная ограда и снова растворялись бесследно.
— Я тут заеду к одному человеку, — сказал Терентьев, — а встретимся мы в школе; там, вероятно, и переночуем.
Мы разъехались. Я остался с Сафаром, а Терентьев, чабан и милиционер отправились в гору другой уличкой.
Лошади наши шли, опустив морды, обнюхивая землю, прежде чем поставить ногу. Временами туман разносило, и я раз увидел ниже нас, на площадке, у сваленных бревен, странное существо. На голове его был платок, падавший лохматым концом ниже пояса, на плечах — что-то вроде жилетки, на ногах — суживавшиеся книзу штаны, вроде зимних красноармейских; ватных. Существо затягивалось из тонкого и длинного чубука, чуть не касавшегося земли.
— Что это такое? — спросил я Сафара, показывая ему на это зрелище.
Сафар повернул голову и сказал:
— Это баба. Все бабы здесь так ходят. Удобнее, знаешь. Тут всегда холодно, климат такой неподходящий…
Туман нашел на нас новой волной. Он был холодный, липкий и очень противный. Лошади подымались все выше в гору. Мы двигались по узким уличкам, и надо было держаться настороже, опасаясь выступов, арок и низких балконов, чтобы не разбить себе невзначай голову.
Наконец мы вышли на какую-то широкую площадку, и тут порыв ветра раздернул, как занавес, туман перед нами, и я невольно остановил своего коня, набрав повод на себя. То же сделал и Сафар.
Передо мной, опираясь на перила галереи, обходившей дом, стояла девушка. И если бы действие происходило не в горах, я ничуть не удивился бы. Но здесь, среди тумана, в ауле, лежащем далеко в стороне от городских мест, у самых ледников, за облаками, стояла на балконе и смотрела на нас в упор очень тонкая девушка и такой странной прелести, что я невольно засмотрелся. Она стояла так близко от меня, что я мог, протянув камчу, достать до ее ноги.
У девушки было бледное, прозрачное, совсем не загоревшее лицо, легкие, слегка нахмуренные брови, тонкие губы, глаза с каким-то небрежным и вместе с тем повелительным выражением. Она представляла такой контраст с окружающим, что вместо всяких слов я глупо пробормотал что-то невнятное.
На ней было серое простенькое платье, пуховый платок на плечах. Неширокий коричневый пояс. Дешевые туфли на низком каблуке.
Наконец я справился со своей растерянностью.
— Вот так красавица! — сказал я. — Откуда вы сюда попали?
Девушка без всякой теплоты в голосе насмешливо сказала:
— Взяла и приехала.
— Откуда же вы приехали?
— Отсюда не видно.
— А как вас зовут?
— Зачем вам знать, как меня зовут? Вам знать мое имя не надо…
— И вы поселились тут жить?
— А что в этом такого? Тут холодно, а я холод люблю, я сама холодная.
— А вы знаете, какие здесь зимы? Все уходят вниз в Азербайджан, а здесь все снег заваливает, только старики да дети сидят под снегом, да женщины ковры ткут. Никуда до весны не выйти…
Она вдруг улыбнулась, отчего румянец пошел по лицу, глаза ее засмеялись, и она сказала:
— А мне все равно. Люди живут, и мы жить будем…
— А что вы тут делаете?
Лицо ее помрачнело, и она ответила почти сердито:
— Ничего. С мужем сплю.
— Ну, я вижу, у вас и язычок!
— С каким родилась, такой и есть. Чего вы остановились? Не вас встречать вышла. Проезжайте на здоровье…
— А как нам проехать к школе?
— К школе как проехать? — Она повернулась, и я, следуя движению ее руки, тоже повернул коня и взглянул на Сафара. Насупившись, не отрываясь, смотрел он на нашу незнакомку, как будто ничего не осталось в нем больше от веселого и самодовольного Сафара. Она, не удостаивая его взглядом, показала вверх по улице: — Туда поезжайте, там каменный забор будет, потом выше, направо, там и школа…
Я стегнул камчой Сафарова коня, и тот, вздрогнув, шагнул вперед. Девушка громко засмеялась, и Сафар точно проснулся. Он поправил фуражку, нахлобучил ее на голову и дал такой удар нагайкой, что его белый в яблоках конь взвился на дыбы. В тумане поехали мы дальше, и я только запомнил отчетливо дом девушки и галерею с резными столбиками.
В школе было пусто и холодно. В одном классе, где парты были сложены грудой, на полу сидели, поджав ноги, закутавшись в тонкие фланелевые одеяла, две девушки, и какой-то худощавый юноша в ковбойке разжигал примус, пускавший струйки синего дыма.
Перед ним стояла молча высокая худая горянка в таком точно костюме, какой я уже видел на странном существе при въезде в аул. Теперь я рассмотрел этот костюм внимательно, и он мне даже поправился. Да, это были зеленые ватные стеганые красноармейские штаны, на ногах мужские тяжелые черные ботинки, белая рубашка была покрыта синей бархатной жилеткой, которую украшал целый клад крупных старых серебряных монет, среди которых я увидел даже монету с профилем Стефана Батория. Был и платок, перехваченный поясом, с лохматым концом. Только она не держала чубука в руках и ничего не говорила, так как все равно мы бы ее не поняли.