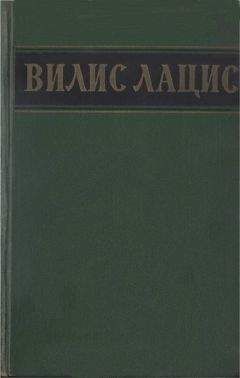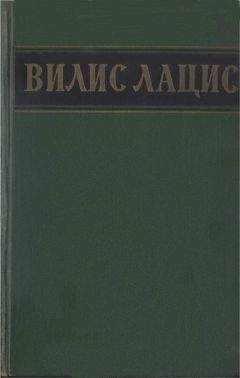— Да и сегодня уже легче, чем вначале, — сказал Юрис. — Я это на себе чувствую.
— Больше опыта накопилось, — ответил Силениек. — Мы лучше знаем людей, знаем, что они могут, чего нет. Да и люди многому научились за это время. Погодите, вот когда будут пущены в ход новые заводы, когда крестьяне-новохозяева соберут первый урожай, когда отпразднуем в Москве нашу декаду искусств, — какой гордостью наполнится тогда сердце каждого латыша. Дайте нам только чуть побольше времени. Прекрасная будет жизнь, друзья!
Но что-то оставалось невысказанным. Айя уловила в улыбке Силениека оттенок грусти. Он мечтал, как пахарь, который, наблюдая за созревающей нивой, думает о грядущем урожае, но в глубине души тревожится заботой: как бы не надвинулась гроза, как бы не побило жестоким градом все, что взращено с такой любовью. К радости и гордости за достигнутое примешивалось тяжелое предчувствие: что-то угрожало этой солнечной тишине. Об этом говорили постройка убежищ, учебные противовоздушные тревоги, бесстыдное появление немецких самолетов над Латвией. Об этом говорили и лица бывших айзсаргов и полицейских, и появлявшиеся на дорогах подозрительные типы, и лесные пожары. Что-то уже тлело, кое-где уже начинало дымить.
Жубур успешно окончил второй курс экономического факультета. Петер Спаре собирался осенью поступать в университет. Впереди открывалась большая жизнь и работа, и они восторженно глядели в будущее. Были и заботы. Но разве они приехали сюда только для того, чтобы думать и разговаривать о своих тревогах и заботах? Имели же они право отдохнуть хоть один день за все одиннадцать месяцев напряженной работы. Как и всех здоровых, жизнерадостных людей, их радовала свежая зелень, пение птиц в кустах сирени, и эта морская даль, и теплый июньский воздух.
Когда полуденный зной спал, решили пройтись по пляжу. На каждом шагу встречались знакомые. Дети играли на дюнах, взрослые загорали, веселые голоса людей сливались с криками чаек, носившихся над отмелями.
Найдя камень потяжелее, Силениек попробовал закинуть его как можно дальше. Айя, хлопнув по плечу Юриса, крикнула: «Лови!» Босая, быстроногая, проворная, она делала такие петли, что Юрису долго не удавалось ее догнать.
Потом они пошли в сад играть в волейбол, а после обеда разошлись кто куда. Жубур, лежа в гамаке, читал Чехова, Айя с Юрисом пошли к киоску есть мороженое и с аппетитом уничтожили по две порции. Силениек все ждал Прамниека с Ольгой. Он их тоже пригласил, и они обещали, но так и не пришли. Он решил, что у них самих были гости.
Так прошел день отдыха — пятнадцатое июня 1941 года. Айя, Юрис и Жубур вернулись с вечерним поездом в Ригу. Силениек остался один. Далеко за полночь засиделся он на скамейке перед дачей. Ночной ветерок шевелил листву. Бессильные, бледные звезды пытались блестеть, но у них ничего не выходило, — отблеск заката простер руки навстречу близкой утренней заре, не давая мраку взять верх.
«Да, теперь можно было бы жить, можно бы свить и свое гнездо», — подумал Силениек.
У Андрея Силениека было много товарищей, связанных с ним крепкой дружбой. Вот только не было самого близкого, к кому можно прижаться горячим лбом, когда устает сердце, когда подкрадывается грусть. А он, как и всякий человек, испытывал потребность в ласке, но в этом ему до сих пор было отказано.
Тихо дышала ночь. Как неотвязная мысль, докучливо-долго жужжал неизвестно откуда взявшийся комар. Андрей Силениек слышал, как стенные часы пробили три раза, а он все еще сидел и думал.
«Да, теперь можно было бы жить. Крепкая целина поднята, плодородные пласты земли повернуты к солнцу».
Хорошо как… Народу хорошо. Благодатный труд оплодотворял страну, и жизнь могла быть счастливой, прекрасной… Все человечество должно желать этого.
Почему именно его поколение должно выдержать самую великую бурю? Может, в этом его счастье?
Тяжелое, трудное счастье… оно уже стучалось в двери.
5
Восемнадцатого июня Ояр Сникер приехал в Ригу по делам фабрики. Ехать собственно должен был директор, но так как некоторые вопросы приходилось разрешать в Центральном Комитете партии, то послали Ояра. Узнав о его приезде, Петер Спаре позвонил всем своим товарищам по тюрьме и предложил устроить вечер воспоминаний — наступала годовщина их освобождения из рижского централа. В связи с празднованием дня Лито, который приходился на вторник, воскресенье 22 июня было объявлено рабочим днем, и Ояру утром этого числа надо было быть в Лиепае. Поэтому годовщину решили отпраздновать двадцатого вечером.
Собрались у Айи. Петер пришел один, Элла была беременна и не могла участвовать в вечеринке. Последними пришли Андрей Силениек с Крамом. Единственный человек в этой компании, не испытавший тюремного застенка, был Юрис Рубенис, но у них и не было намерения приглашать одних бывших политзаключенных.
Вспоминали каждую подробность своей последней ночи в тюрьме. И то, что каждый перечувствовал, и то, что думал и что делал… Таинственное перешептывание тюремщиков, необычайное оживление во всех корпусах… Неизвестно кем отданное некоторым заключенным распоряжение собирать вещи…
— Я вам говорю, что они собирались покончить с нами в последнюю ночь, — сказал Петер Спаре. — Посадить в «черную Берту», отвезти за город в тихое место и убить. Все было бы шито-крыто, и в день освобождения не было бы среди нас ни Андрея с Ояром, ни многих наших друзей.
— Может быть, двадцать первого июня вообще некого было бы освобождать, — сказал Силениек. — Если бы им удалось увезти первую партию, они взялись бы и за остальных. Бикерниекский лес недалеко. За одну ночь можно было сделать несколько рейсов.
— Выходит, они хотели устроить варфоломеевскую ночь? — сказал Юрис. — А ведь верно — айзсарги и молодчики из штабного батальона были приведены в боевую готовность. Ждали только сигнала, чтобы начать.
— Да, был у них такой план, — ответил Силениек. — Хлопнуть дверью… Теперь это известно. Весь рижский полк айзсаргов был разбит на террористические группы. Каждой группе отвели особый участок, определенное число рабочих семей, которые числились в списках охранки. Если бы они осуществили свой кровавый план, мы в первое время остались бы без кадров и актива.
— Нас тоже не было бы, — заметила Айя.
— Они хотели сломать партии хребет, — сказал Крам. — Вместо старых товарищей пришлось бы идти на ответственную работу начинающей зеленой молодежи, без стажа и знаний.
Участник гражданской войны, Крам любил напоминать о своих заслугах и немного свысока смотрел на товарищей, вступивших в партию после 1930 года. Сам он лет десять как остановился в развитии. Он всегда и во всем требовал крайней прямолинейности. Слишком медленными и осторожными казались ему темпы перестройки за прошедший год. Ему не терпелось видеть молодую, формирующуюся Советскую Латвию такой, какой она должна была стать в результате естественного развития через несколько лет. Будучи сам полнейшим аскетом, он осуждал малейшую человеческую слабость. Кружка пива, новый костюм, танцы в его глазах были блажью, пережитками прогнившего капитализма, от которых надо немедленно освободиться.
И Силениек, и Петер, и другие давно знали нрав Крама. И хотя в тот вечер на столе стояли бутылки пива, они не чувствовали неловкости, когда Крам отказывался от предлагаемого ему стакана. Ояр каждый раз наливал ему лимонаду, чтобы он не оставался в одиночестве.
— Дели с нами грех пополам, — говорил он.
— Почему ульманисовцы отказались от своих намерений? — спросил Юрис, и сам же ответил: — Потому что силенок не хватило. Потому что у тюремных ворот стояли советские танки и Поммер получил предупреждение: «Попробуй только начать, тогда тебе конец».
— Кроме того, генерала Праула в ту ночь вызвали на первое неофициальное заседание совета министров и сказали, чтобы он немедленно убрал с улиц своих айзсаргов, иначе гнев народа сотрет их в порошок, — продолжал Силениек. — В том, что предупреждение не было пустым звуком, Праул убедился на заседании. Могучие советские танки и бронемашины, стоявшие на перекрестках, не обещали ничего хорошего зачинщикам погрома. А таких героев или фанатиков, которые не побоялись бы идти с оружием в руках на верную смерть, у наших противников не нашлось.
— Эта публика всегда трусит в подобные минуты, — сказал Петер.
Когда наговорились о пережитом в ту историческую ночь, Ояр Сникер решил, что все участники вечера настроены слишком серьезно.
— А помните, как мы, под самым носом у надзирателя, играли в карты?
Крам укоризненно взглянул на Ояра, но тот сделал вид, что не замечает этого взгляда.
— Ах да, расскажи, Ояр, — попросил Петер. — Не все ведь знают.
— У нас в камере сидел один веселый парень, по фамилии Пакалнынь. Днем он работал в швейной мастерской. Однажды он проигрался в карты и спустил все свое арестантское богатство. Тогда он поставил на кон свою куртку. Перед самой решающей партией специальная комиссия произвела оценку куртки и составила акт, чтобы все было как полагается. Перечислили карманы, пуговицы, каждую примету и договорились, что в случае проигрыша Пакалнынь обязан в семь часов вечера отдать куртку выигравшему. Председателем комиссии был наш уважаемый товарищ Крам. Ну, куртку Пакалнынь, конечно, проиграл. После этого его увели на работу. Когда он вернулся, его не беспокоили, но в семь часов Крам объявил, что куртку пора отдавать. Однако парень и не подумал с ней расстаться. Он с самым серьезным видом вынул из кармана маленькую-маленькую модель куртки, которую можно было надеть только на мизинец, и положил на стол: «Прошу принять по акту, соответствует ли описи?» Конечно, все было в точности — число карманов, пуговиц, фасон. Тут новый хозяин куртки рассердился: «Чего ты дурака валяешь? Я тебе не кукла!» А Пакалнынь преспокойно отвечает: «Все предусмотрено актом, только размер не обозначили, пусть комиссия решает, кто прав». После долгого обсуждения комиссия вынуждена была признать, что прав Пакалнынь. Правильно, Крам, ты ведь сам объявлял решение?