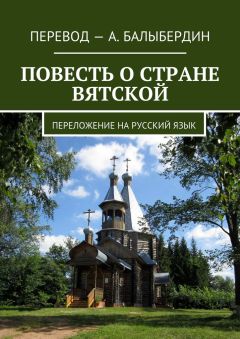— Есть у этого хама какие-нибудь основания? Ты дала какой-нибудь повод?
Шура вцепилась пальцами в паз и начала выщипывать мох. Грохотов постоял, подождал ответа и, не дождавшись, отошел к плите, на горячей спине которой жарились и начинали подгорать ломтики хлеба.
— Основания, поводы… — Шура смахнула слезы и шагнула к мужу. — Конечно, есть. Когда-то ты сам обвинял меня в том же, а поводов было меньше. Разве тут нужны поводы? Была бы злая воля да нахальство. Я встречаюсь с Ледневым, встречаюсь и с Адеевым и еще со многими: такая служба.
— Брось. Не копайся в этой дряни! — Грохотов совал жене поджаренный ломтик. Он испугался, что она начнет ворошить неприятное для него прошлое.
Она оттолкнула его руку и продолжала говорить:
— Ну, ладно, я не стану встречаться с Ледневым. Ну, плюнем на него. Он досидит до тюрьмы, туда и дорога. А работа! А смычка! Вот и приходится твоей Шурке бегать. Ее халезят, бранят, а ей приходится. Вот тут как хочешь?! Ты скажешь: без меня сделают. А вдруг не сделают?! Ты знаешь, зачем приходил этот хам?
— Упал, и надо за кого-то схватиться.
— И не только. Не за одно это хлопочет он. Ему больше не подняться — он знает. Ему надо уронить Леднева. Он хочет сорвать смычку, чтобы подвести Леднева под суд. Вот слушай. — Шура взяла руку мужа и начала перебирать пальцы. — Если мы все будем душа в душу, смычка будет, и Леднев, какой он ни на есть, а спокойно уедет со стройки. Если же Адееву удастся отбить машинистов… Машинисты могут спасти все, они же и погубить могут.
— Так, так, — повторял Грохотов.
— И меня он припутал с целью: Колька-де приревнует и убежит с разъезда. Не будь у него цели, стал ли бы он… и с такой злостью…
— Я побегу, там… — Грохотов натянул шубу, крякнул и схватился за скобку. — Он не иначе ушел к машинистам и колодит.
— Зачем идешь? Смычки пускай не будет, Леднева пускай судят; Адеев пускай радуется, тебе что за дело?! — закричала Шура.
— Чушь городишь, чушь. Знать, видеть: тонет все — и… чушь!
— Ну, так и меня пойми, я тоже не могу! — Она поцеловала мужа и ласково проводила за дверь. Оставшись одна, забралась в самый темный угол Брехаловки, накрылась шубой и заплакала.
Придя домой, Грохотов застал жену сонную, с мокрым лицом, разбудил ее и начал выспрашивать, предполагая всяческое.
— Тебе нездоровится? Что-нибудь случилось? Приходил и обидел Адеев?
— Нет, нет. — Шура как бы припоминая, потерла ладонью лоб. — Я видела сон, будто у меня умер ребенок, будто я жила в пустыне среди пьяных людей, среди живых и окаменелых змей, и там меня хотели убить. Будто все на меня показывают пальцем и говорят: «Вот она, гулящая». Хорошо, что это только сон.
— Да, да, хорошо, — забормотал муж, ошеломленный совпадением рассказанного с действительностью. — Ты старайся не видеть таких снов.
— А сегодня в меня стреляли. Может, и не в меня, может, в Адеева: он проходил тут. А может, он в меня стрелял.
— Вот до чего дошло, — ахнул Грохотов. — А впрочем, не ново.
Шура не ошиблась, — Адеев был у машинистов, склонить их на свою сторону не сумел, но неприязнь к Ледневу расшевелил настолько, что многие решили всеми силами добиваться замены начальника другим.
— Мы — шпана? Потомственные рабочие и вдруг — шпана! — Гробов бегал по Брехаловке, размахивал кулаками и ярился: — Я ему за это морду раскровеню, я не помирюсь!.. Либо он перед всем рабочим классом раскается, либо духу его здесь не будет.
— Не мог он вас, ребятишки! — выкрикнула Шура. — Другого кого-нибудь. А если вас, тогда, значит, и Кольку и меня?!
— А ты что для него?! — Гробов взлохматил волосы. — Богородица?!
— Да я… Да мне… — Шура растерянно протянула руки к машинистам. — Да наплевать, как и кто там! Ребятишки, в меня сегодня стреляли. — Шура рассказала происшедшее с ней на тропе.
— Ты что же, дура, молчала?! — вскипел Гробов. — Это храповец, не иначе. Эх, теперь его… теперь он смылся!..
Но все же пошли в Храповку. Ни поголовным опросом, ни обыском обнаружить стрелявшего не удалось. Им, по всей вероятности, был Панов, который перед тем пьянствовал несколько дней, а потом исчез куда-то. Обозленный неудачей, Грохотов рычал:
— Вот до чего дошло! Я им!.. Я их!.. Я не я буду!..
В тот же вечер машинисты подняли Леднева с постели и потребовали выселить храповцев.
— Храповка — наша тень, она неизбывна, — сказал он, как и Шуре.
— По-твоему — бей, стреляй? — Гробов начал трясти Леднева за пиджак. — Мы — шпана? А кто к шпане приваливается — «выручай, братцы»?!
— Я, товарищи, не понимаю. Меня все это удивляет, здесь какое-то смешение двух дел. Грохотов, объясните! — Леднев крепко потер смятые во время сна щеки.
— К тебе, Гробов, надо поставить охранника: высунешь язык, толкать его обратно, — осадил машиниста Грохотов, потом обратился к Ледневу: — Вы нас, машинистов, называли шпаной?
— Никогда. — Леднев подумал, посопел и прибавил: — Никогда! К машинистам, и особенно к вам, товарищ Грохотов, я, кажется, относился достаточно внимательно. Но, чтобы быть точным, некоторые элементы на разъезде я считал и считаю шпаной. Вы их знаете. Вы удовлетворены? Мне можно продолжать сон?
— С Храповкой надо разделаться. Я не помирюсь. В нас будут стрелять… Дайте нам пять грузовиков, остальное мы сделаем сами.
Леднев написал распоряжение в гараж и подал Грохотову.
Около Храповки гудели грузовики. Машинисты бегали по землянушкам и покрикивали:
— Поехали, поехали, шевелись!
Большинство покорно собирало добришко и усаживалось в машины, вздумавших сопротивляться машинисты усадили силой — и грузовики, глубоко вспахивая колесами сугробы, начали пробираться к торной дороге.
— До первого караван-сарая! — крикнул шоферам Грохотов. — Там куда хотят.
От сотенного населения Храповки осталась небольшая группа «малявочек», которые имели на разъезде дружков и рассчитывали устроиться с ними. Гробов сидел в рабочкоме и объяснял Шуре, почему он не принимает участия в выселении храповцев:
— У меня там есть… Увижу, как ее, тепленькую, из постельки выгонят на мороз, и дрогнет сердце. Слов нет, на предмет свидания хороша, а на плечи сажать…
Вошла «малявочка» с двумя узлами добра и весело объявила Гробову:
— Нас разгромили, я к тебе.
— А может, ты еще к кому-нибудь адреснешься? — проворчал Гробов, глядя на замороженное окно.
— К кому? С кем жила, к тому и пришла.
— А все-таки не я одни на разъезде… У меня и хором для тебя подходящих нету, и любовь вроде на убыль пошла.
«Малявочка» обругала Гробова подлецом, подхватила узлы и убежала в городок. Там она обошла всех дружков, но ни один из них не обрадовался ей.
— Толкнись к другому! — советовали все, как сговорившись. — Не один я, с кем ты утешалась.
Такая же неудача постигла и прочих «малявочек». Измученные, озлобленные, разочарованные в любви и в жизни, они пришли к Ледневу и попросили отправить их вдогонку за храповцами. Грузовик тотчас же умчал их под насмешливые крики дружков:
— Ур-ра, поехали! Счастливого пути! Просим не забывать! Жаловать!
На обратном пути машины перевезли разобранную Храповку в городок.
«Малявочки» увлекли с собой одного из тепловозных машинистов, и Грохотов со своим экскаватором остался при одном уборщике породы. Второго, вместо убежавшего, было негде взять, и Грохотов сказал жене:
— Тебе придется стать машинистом.
— Это когда же? Скоро смычка.
— Завтра, немедленно, как стали Тансык, Гонибек, без теории, с одной практикой.
Она пошла в ученицы к Гробову и вскоре повела тепловоз самостоятельно.
Трудно сказать, кто больше всех обрадовался этому, — пожалуй, и не сама Шура, и не муж, а Гонибек.
Ночью бригадир Гусев, старший кузнец и машинист Урбан открыли кузницу, пустили компрессор — и в темном горне заклубилось шумное, многоязыкое пламя. Гусев ходил вокруг штамповального стана и бормотал:
— Каша и с печкой и с бурами. Народу тьмища, а расхлебывай один Гусев. Завтра с нас потребуют две тыщи пятьсот пятьдесят буров. — Он нарочито ясно выговорил цифру, чтобы его помощники почувствовали всю важность дела. — Ты сколько раз бьешь по одному буру? — спросил Гусев кузнеца.
— Как придется.
— Значит, шлепнешь, а потом тащишь к огню глядеть?
— Да, бывает, шлепаю три и четыре раза.
— А с одного не пробовал?
— Нельзя. Можно разбить и молот и наковальню.
— Попробуем! — Гусев взялся за ручку, регулирующую работу штампа.
— Боюсь, все расхватит на кусочки. — Кузнец готов был отдернуть руку бригадира.
— Ну, ну, не каркай! Начальство заиграло в двадцать одно, и нам приходится.
Гусев накалил бур, положил на наковальню.