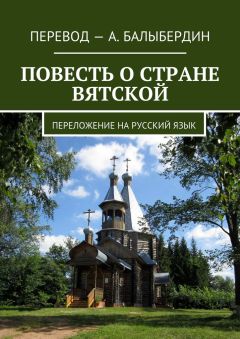Когда голоса поумолкли, Елкин проговорил, путаясь:
— Я понимаю и подойду, как к пролетариям. В первую очередь, вне очереди. Обещаю, по-хорошему.
— До печек дай нам пересидеть в бараке, в два-три дня не треснет ведь ничего, — попросили мостовики.
— Может треснуть. Вам особенно надо торопиться: скоро половодье, не доделаем котлованов, вода все смоет. Вы же не какой-нибудь сброд, а специалисты, сознательные. Все понимаете. Кто же нам сделает, кто?!
— Известно, буржуй не сделает.
Поднялся «Иван по матушке-Руси».
— Ну, пошли, ребята! Сказано — тепло будет, а теперь как есть, так и есть. Из начальника, из рабочкома тепла не выжмешь: сами в холоду и нечего их мытарить.
Он вышел из барака. За ним потянулись и прочие мокрой понурой толпой. Выведя всех из барака, «Иван» немножко задержался, остановил Елкина и проговорил, подкрепляя слова для большей убедительности взмахами кулака:
— Мы не на выжимку бьем, не за лишним рублем тянемся, а дух вышел, дух. Это пойми! — и, шурша обледенелым плащом, пустился догонять ушедших.
Гусев прикрыл за Елкиным дверь своей изобретальни и включил вентилятор.
— Ну, как? — Инженер был хмур. — Кого повесят — меня? тебя?
— Меня. — Бригадир зло бросил в угол еще несколько трубок. — Можешь готовить веревку.
— Не уберечься и мне, я надавал столько обещаний, так скрутил себя…
— Меня, меня — если к утру не будет готова. К утру обязуюсь!
Всю ночь Гусев и жестянщик возились с трубками в брюхе печки, пытали ее на все отбросы и к утру добились: она без разбору начала пожирать объедки от благородных машин. Утром, придя в кузницу, рабочие застали такую картину: красную печку, около нее всхрапывающих Гусева с жестянщиком и вентилятор, выгоняющим тепло.
— Ну, перепились наши фокусники, — решили кузнецы и растолкали спящих. — Здорово дернули? Где вы раскопали эту барыню?
— Сделали! — Гусев воинственно поднял руки. — Тащи из Красного уголка знамена, бери печку, нас бери на руки, и — на площадь. Есть смычка, вот она! Чего буркалы пялите: где, мол, те обещанные, куда их? Здесь они, у нас, в наших руках и больше нигде нету!
Печка топилась у мостовиков, окруженная счастливыми людьми, наконец поверившими, что тепло существует и для них; топилась, завешанная мокрыми полушубками, обставленная сапогами, валенками. Сюда тянулся весь люд ухватить кусочек тепла, понюхать, как оно пахнет.
— Дверь закрывай, выстудишь! — кричали счастливые владетели печурки.
— Испугались, — без печки жили, с печкой замерзать собираются! — подтрунивали над ними. — Вам тепло вредно: разнежитесь.
Забежал Козинов, погрел руки, подержал над печкой свой заиндевелый полушубок и проговорил:
— Теперь, ребята, никакой бузы! Не сделаем, сорвем смычку, не будет нам пощады… — И пустился к Елкину.
— Грелся. Здорово-о! — бормотал он там счастливо. — А сорвись?!
— Ну, ну, довольно, не вспоминай! — Елкин закрыл глаза. — Ты там регулируй, ты лучше знаешь, где могут подождать еще, а где не могут.
Организованная Гусевым бригада кузнецов, слесарей и жестянщиков гнула ежедневно по нескольку десятков печек. Особая комиссия распределяла их, сообразуясь с жилищными условиями, работой и настроениями людей.
Елкин в легком халатце сидел около румяной «фальшивки», как назвали печку, и наблюдал за ловкими руками Оленьки, сидевший бок о бок с ним и что-то вышивавшей желтым шелком по суровому полотну. Вечерние доклады прорабов были выслушаны, приемы закончены, акты и рапорты, не принесшие ничего угрожающего, просмотрены. Остаток вечера находился в полном распоряжении инженера, и он проводил его в ленивом состоянии, несказанно приятном после многих месяцев непрерывной тревоги и беготни.
Оленька вышила круг, утыканный стрелками, разгладила его ладонью и, осторожно потянув Елкина за халат, спросила:
— Папочка, тебе нравится?
— А что это будет? — Он ткнул пальцем в круг.
— Солнце, а все вместе — Балхаш: вода, берег, камешки.
— Почему ты начала с солнца? Я бы сперва сделал берег, потом воду, и солнце — последним.
— Ну вот, я спрашиваю, хорошо ли, а он критиковать. У меня пропадет охота, и ты не получишь панно.
— Оно для меня, мне?
— Кому же?! — Девушка приподняла стрелки бровей. — Себе я всегда успею.
— Это, выходит, прощальный подарок? Правильно, начинай с солнца, очень хорошо!
— Ты смеешься. Ну да, я глупая, не спорю. Ты умный! А вот не хочешь понять, что у глупых тоже есть самолюбие. — Она начала натягивать шубу.
Елкин глядел на нее и думал: «А моя Оленька меняется. Раньше, бывало, рассердится, везде углы, локти. А теперь куда-то девалась изломанность, как-то все закруглилось».
— Оленька, ты куда? Мне одному будет скучно, посиди!
— Зачем я вам, у вас есть фальшивка!
— Ну же, ну… — Он подошел к ней. — Прости, если обидел! Посиди, нам скоро расставаться. Ваганов увезет тебя, и один я насижусь еще. Почему-то парень не показывается. Он тебе пишет?
— У меня с ним ничего общего, — проговорила девушка, все еще недружелюбно поглядывая на старика. — Я и не помню, какой он, смутно так, чуть-чуть.
— Поссорились?
— Нет, так, — прошептала она и вздрогнула точно от внезапного испуга. — Я ему сказала, а он…
— Всерьез принял? Бывает. Ну, он приедет.
— Мне он не нужен. — Оленька потупилась.
— Что с тобой, какая ты обидчивая стала?! — Старик притянул голову девушки и постучал пальцем в лоб. — Большая, надо спокойней быть. Ты по-серьезному большая становишься, лицо округляется и походка другая, важная такая. Не шучу и не смеюсь. Молодость! Один-два месяца меняют человека до неузнаваемости.
— Я все-таки, папочка, пойду. Я прибегу потом. — Оленька горестно вздохнула и мягко, без характерного еще так недавно для нее подпрыгиванья вышла.
Старик сидел наедине с «фальшивкой» и ворчал, поталкивая ногой сонного, разомлевшего от тепла Тигру.
— Отпустим Оленьку к Ваганову? К чему нам заедать ее век?! Мы с тобой вдвоем как-нибудь… С ним объясняются, а он дрыхнет… — Старик ласково поерошил кота и сел писать Ваганову, что пора заглянуть на участок, и нельзя обижать таких девушек, как Оленька, и вообще вредно, когда всяко лыко в строку.
Выстояв два с половиной месяца на сорокаградусной точке и выше, морозы, наконец отступили. Началось быстрое потепление, и в середине марта термометр показал ноль градусов. Воздух пропитался терпким запахом конских и верблюжьих отбросов, поспешно, под первой же лаской солнца, вытаявших по дорогам. Степная даль прояснилась, точно с нее сняли злокачественное бельмо, и в искристой глубине ее завиднелись белые с синеватой поволокой вершины Тянь-Шаня.
Оленька сидела у раскрытого окна за своим панно «Балхаш». Зажав ладонью больную щеку, Елкин кружился по комнате, будто осаждаемый осами: поражение тройничного нерва причиняло ему по временам нестерпимые боли.
— Папочка, поезжай лечиться. Теперь без тебя все сделают, — сказала Оленька.
— Ты думаешь: солнце, тепло, весна — и все в порядке? Наивная душа! У нас бескормица, подыхают лошади, и с севера и с юга нажимает укладка, ей осталось только двадцать километров до Огуз Окюрген. А там — невзорванные карьеры, недорытые котлованы. Весна — вам она друг, улыбка, а мне — враг! Кто знает, когда ей заблагорассудится прийти. Не приготовим к разливу котлованы — и наша смычка уплывет в Балхаш. А потом, потом… — Он прильнул к уху Оленьки. — Я хочу видеть смычку, хочу пройти весь путь, весь, весь! Хочу видеть все плоды своих трудов! Вызвони-ка с конного дрожки! Съезжу в Огуз Окюрген на котлованы. Да и щека на воле, на солнце не так болит.
Подали не Милку и Каурого, которые постоянно возили Елкина, а новую пару — коренником высоченного полуоблинявшего мерина, пристяжной маленькую с наивной мордой пегую кобылку.
— А где мои? — хмурясь, спросил он конюха. — Сколько раз предупреждал: мою пару никому не давать.
— Ее и не дают, она на конном. У Милки отнялись ноги, а Каурый, кроме Милки, ни с кем не ходит.
— Где испортили Милку, кто?
— От недоеду, сегодня пять лошадей выбросили в степь.
— Слышишь? — Елкин дернул за рукав Оленьку, вышедшую проводить его. — А ты улыбаешься…
— Я, папочка, про себя, я солнышку, очень уж хорошо греет.
Случайная, до того никогда вместе не ходившая пара лениво, сбиваясь с ноги, тащила дрожки. Елкин сидел сердитым сычом. Его раздражало и слишком горячее, не по времени, солнце, и обмякшая, проступающаяся дорога, и клочья грязной шерсти, падавшие с крупа мерина прямо в дрожки, и чмоканье талого снега под колесами. Разыскав Калинку, он с первых же слов опрокинул на него все свое раздражение:
— Ты хочешь подвести смычку под половодье?! У вас здесь снег, холод, сумрак, и ты думаешь — зима крепка. Выйди в степь, выйди! Там весна, завтра хлынет.