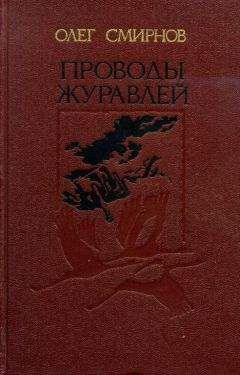А любопытно все-таки, кто же поселится, или уже поселился, в отцовской квартире? Кто будет обживать углы, где еще витает отцовский дух? Какие-то чуждые, неизвестные люди, по неизвестно какому праву въехавшие в нее. Право, разумеется, известно, и все-таки как-то странно: жил там отец, теперь живет некто мистер Икс. Ну и с богом, мистер Икс…
Когда Мирошников поднялся к себе на пятнадцатый этаж, то подумал: Маша наверняка в этот миг добралась до своего учреждения, по времени это было как раз. Купленное по пути мороженое — два больших брикета пломбира, любимого и Машей и Витюшкой, — сунул в холодильник, в заморозку, то-то будет сюрприз. И обед сготовит, тоже сюрприз. Само собой, это не будет венец кулинарии, до Маши ему далеко, зато собственноручно. Он чистил картошку, шинковал капусту и лук, мыл и резал говядину — щи на первое, на второе — свиные отбивные, отбивал их на деревяшке от души, думая: «Не все же соседям с шестнадцатого лопать отбивные, иногда и нам перепадает!»
Хрипловато работало радио «Маяк»: те же шлягеры, перемежаемые последними известиями. Получалось: не послушаешь Аллу Пугачеву — не узнаешь, что творится на планете. Так сказать, плата за информацию. Пустопорожними песенками, за которыми взбодренная дикторская скороговорка: диктаторский террор Пиночета в Чили, новое кровавое преступление правящей клики в Сальвадоре, вооруженные провокации против Никарагуа, — за этим, как и за всеми черными делами на земле, встают Соединенные Штаты Америки. Протест и гнев вызывают такие факты, но при чем же здесь взбодренность тона? А еще дикторы уважают патетику — к месту и не к месту. Под окнами шумел-гудел машинами и родимый Олимпийский проспект — тоже трудяга, хотя до проспекта Мира покуда не дотягивает. И гул этот несколько приглушал поставленные голоса дикторов и непоставленные голоса эстрадных бардов. А вообще от городского шума устаешь, и хочется загородной тишины с поскрипыванием снега, шорохом ветвей и снегириным писком у кормушки…
Варились щи, и одновременно поджаривались отбивные, — конечно, обед лучше есть с пылу, с жару, но ничего, съедят и после, разогреют. Главное — чтоб к приходу Маши все было готово. И почему-то сразу же Вадим Александрович подумал: в этих стремлениях сделать жене приятное кроется нечто искусственное, он словно подогревает в себе то, что уже подостыло. Возможно, возможно. Ну да ладно, жизнь продолжается, ломать ее ты не собираешься, да и не все в твоей воле.
И все-таки он мог бы изменить с в о ю жизнь. Мог бы потому, что живет. А отец не может, потому что мертв. Но отец и не собирался ее менять, когда был жив. Отчего же он, Вадим Мирошников, должен что-то пересматривать? Нет уж, отец, прости, но ты жил по-своему, и я живу по-своему. О том, что мы оказались врозь, можно лишь пожалеть. Будь вместе, я бы, не исключено, вырос больше похожим на отца, чем на проезжего молодца. Ах, да не остроумно это, не смешно, скорее грустно это…
Вадим Александрович выключил конфорки, убрал кастрюлю и сковородку на подставки, снял фартук и опустился на стульчик. Непонятная, внезапная усталость согнула спину, и он, ссутулившись, без единой мысли сидел так, уставившись под ноги. Потом встрепенулся, поднял голову, огляделся, будто узнавая, где он. Да у себя, в кухне-столовой. И пора идти за Витюшкой в школу. А усталость сбросить, вот и весь разговор.
Из школьного подъезда вместе с клубами пара выкатывалась ватага за ватагой — девочки и мальчики с ранцами на спинах, как с горбами, с сумками в руках: спортивные тапочки, трусики, майка; старшеклассники вышагивали гордо, расталкивая мелюзгу, являя неокрепшие басы и пробивающиеся усики. Мирошников тотчас увидел, как из дверей на ступеньки вышел Витюшка, поправляя одной рукой портфель-ранец, а другой — с матерчатой сумкой — размахивая и норовя съездить пристававшего к нему одногодка. Но, заметив отца, смущенно отдернул руку с сумкой и поспешил по ступенькам к нему.
Он обнял сына, поцеловал в щеку, тот смутился еще больше:
— Ну, что ты, пап? Целуешься…
— Виноват, — сказал Мирошников, улыбаясь. — Больше не буду…
Он хотел взять сына за руку и не взял: а ну как мальчишка снова пресечет эти принародные нежности? Мальчишка ведь не девчонка! Но когда они пришли домой и Витюшка наскоро порешал примеры, которые ему не давались, и отец проверил решение, когда без матери Витюшка обедать отказался («В школе завтраком покормили»), а тут и Маша позвонила, что к шестнадцати будет, подходите к метро, когда они отправились к метро, однако время еще было и решили заглянуть в парк ЦДСА, — Мирошников взял-таки сына за руку, и тот не противился, совсем наоборот. И Вадим Александрович подумал, что как ни крути, а годы уже малость его потрепали, развеяли иные иллюзии, многое недоделано или вовсе сделано не так, как надо бы, но все же выпадают и у него по-настоящему счастливые минуты. Например, когда идет по парку, под подошвами похрустывает снежок, и с веток пылится снежок, и небо ничем, кроме снега, не угрожает, и рядом с ним — сын, которого он держит за руку…
Они побродили по аллеям, вдоль обезглавленных, срубленных еще в юные годы серебристых елей (оттого росли вширь — не вверх), у пруда, где в не замерзшей у берега черной воде плавали почему-то одни селезни, посмотрели на прогуливающихся пенсионеров мужского и женского рода, и пенсионеры посмотрели на них. Мирошников подумал: «И отец мог этак прогуливаться каждый день, но трудился до конца» — и сказал:
— А хочешь, сынок, на выставку оружия пойдем?
— Ой, пап! Конечно!
Это было рядом, на площадке позади Музея Вооруженных Сил. Под открытым небом, припорошенные снегом, стояли бронепоезд и торпедный катер, танки и самолеты, орудия и ракеты, вертолет, минометы, бронетранспортеры — чего только не было. Витюшка жадно осматривал экспонаты, спрашивал:
— Пап, сила?
— Сила, — соглашался Мирошников и думал: от парка, от выставки до МИИТа две остановки трамваем, пешком десять минут ходу, зайти бы туда хоть во двор, а?
— Если на нас нападут, мы им дадим, да?
— Еще как дадим.
— И я так думаю. Пускай лучше не лезут.
— Не полезут, — окончательно успокоил Мирошников. — Побоятся.
— Пап, — сказал вдруг Витек, — а твой папа, мой дедушка, смело воевал, да?
— Воевал. Смело.
— А сейчас он умер?
— Умер.
— Почему? Старенький?
— Старенький и больной.
— Все старенькие — больные, да?
— Наверное, — сказал Вадим Александрович и добавил: — Пора, сынок, к метро…
— Еще посмотрим!
— Нет, пора…
Он рассчитал точно, они были у выхода со станции вовремя, но Маша приехала раньше и ждала их, сердитая:
— Вышла, а вас нету… Где вас носит?
— Мам, а мы в парке видали селезней, без уточек, — сказал Витя. — И выставку оружия посмотрели! Сила!
А Мирошников ничего не сказал, но подумал: «Почему я, собственно, должен кому-то угождать? То жене, то шефу Ричарду Михайловичу, который вовсе и не шеф, лишь директор фирмы?»
Дома Маша подобрела, отведав обед в мужнином исполнении, обед запили вчерашним компотом, и тогда Маша вопросила:
— А еще что-нибудь будет? Для души?
Она повторила шутливую фразу, которую произносил иногда сам Мирошников. Без улыбки он ответил:
— Будет и для души.
И выволок из заморозки пломбир. Маша захлопала в ладоши, Витюшка закричал «ура!». Пломбир размяли, размягчили, чтоб не был холодным, сдобрили смородиновым вареньем, и вкуснота получилась необыкновенная. Это было поистине для души…
Мирошников предлагал поехать к старикам еще в субботу, повечеру, — там бы переночевали, и воскресное утро было бы уже дачным. Но у жены были свои планы — уборка квартиры, — и она непреклонно произнесла:
— По-е-дем зав-тра!
И сколько ни уговаривал ее Мирошников, ответ был одномерный:
— Ут-ром! По-рань-ше!
Ну завтра так завтра. Поедем. Пораньше. На ермиловскую дачу. Которая когда-нибудь станет Машиной и, следовательно, его. И он будет вполне современный, преуспевающий человек: квартира, машина и дача. А здорово бы вместо дачи уехать куда-нибудь далеко-далеко, к черту на кулички, где новые люди и новая жизнь и где он сам бы стал новым. Юношеские мечтания? Они самые. К тридцати пяти можно обойтись и без них.
Витюшу уложили рано: после школы не поспал, а завтра вставать чуть свет, на электричку в восемь пятнадцать. Сын протестовал, капризничал, но уговорили — лег и быстренько уснул, несмотря на то, что над головой было шумновато. Сперва токарь скандалил со своей половиной, кричали, топали, падали какие-то вещи, затем воцарилась тишина, и затем уж токарь неумело, фальшивя, играл на баяне, и его половина пела под баян: «Ему сказала я: «Всего хорошего», а он прощения не попросил…» Это означало полное примирение супругов, своего рода семейную идиллию.