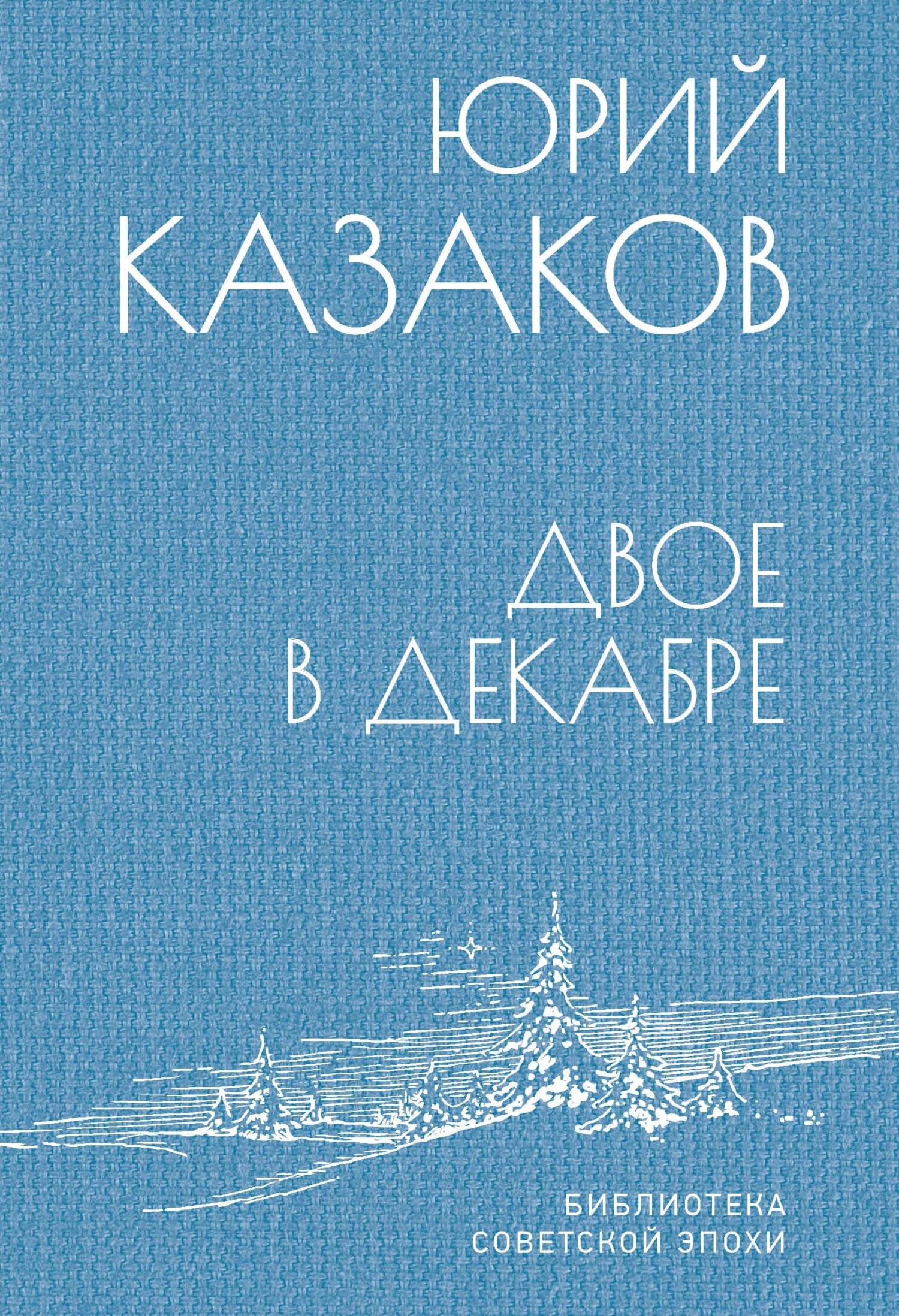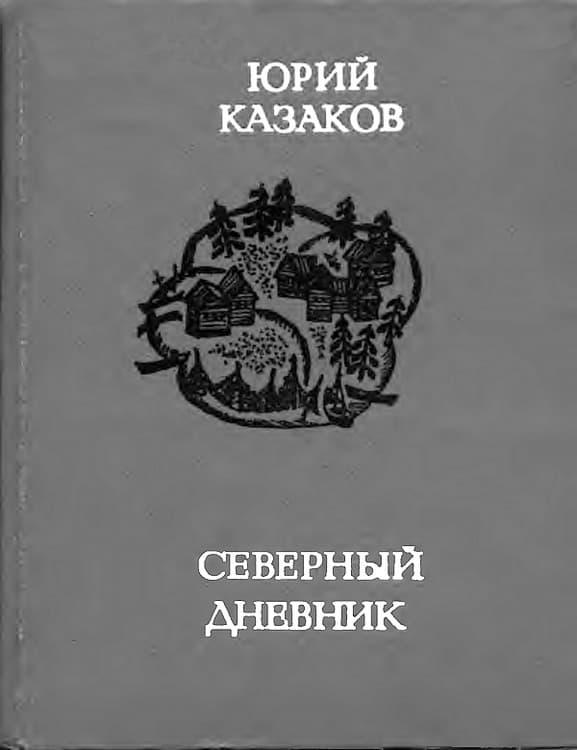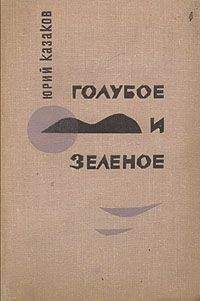знал, что, зарывшись с головой в подушку, затаив дыхание, с бьющимся сердцем, ты ждешь меня, ждешь той захватывающей минуты, когда я приду к тебе со свечкой.
Надо сказать, что у нас с тобой был чудесный подсвечник – мне подарили его в Германии. А представлял он из себя фарфорового добродушного человечка, столбиком стоявшего на медной подставке, – с круглым животом, в камзоле, в коротких панталонах, в белых чулках, с пухлыми щечками и с шандалом на треугольной шляпе.
И вот зажег я свечу в этом подсвечнике, подождал некоторое время, пока она получше разгорится, а потом медленно, шагами командора, подошел к твоей комнате и остановился перед дверью.
Ну, несомненно, же ты слышал мои шаги, знал, зачем я подошел к твоей двери, видел свет свечи в щелочке между дверью и косяком, но терпеливо, весь напрягшись, ждал.
Наконец я торжественно, медленно стукнул тебе в дверь три раза: «Тук! Тук! Тук!» – тотчас услышал стремительный шорох, – ты вскочил, как пружинка, открыл дверь (кровать твоя стояла рядом с дверью) и выговорил нараспев:
– Све-е-ечечка!
Озаренный свечой, ты сиял, светился, глаза твои, цвета весеннего неба, лучились, ушки пламенели, взлохмаченный пух белых волосиков нимбом окружал твою голову, и мне на миг показалось, что ты прозрачен, что не только спереди, но и сзади ты освещен свечой.
«Да ты сам свечечка!» – подумал я и сказал:
– Ну! Давай!
– Это… это… – заторопился ты, трогая пальцем подставку, – подсвечничек!
– Так. Дальше?
– Это животик…
– Э, братец кролик, ты уж не перескакивай, давай по порядку!
– Знаешь, знаешь! – заспешил ты, торопясь поскорее добраться до главного. – Подсвечничек, потом ножки, потом штанишки и уже животик… Потом головка… шапочка…
– Опять пропустил! – напомнил я.
– Щечки, носик… – спохватился ты. – Потом шапочка, а это… это… – запнулся ты, не зная, как назвать шандал, укрепленный на треуголке, – это такая штучка…
И вот наконец главное!
– Све-е-ечечка го-ли-и-ит! – с упоением протянул ты.
– Ну вот, – весело сказал я. – Вот и все. Теперь спать. Гаси свечку и – бай, бай, – хорошо?
Еще несколько секунд глядел ты на огонь свечи своими огромными лучистыми глазами, и на лице твоем промелькнула некая таинственная тень, будто хотел ты остановить мгновенье, потом лицо твое опять просияло, ты вздохнул легко, дунул на свечку и, восторженно взбрыкнув ногами, бросился головой в подушку.
Перекрестив тебя и укрыв одеялом, погладив пушистые твои волосики, я вышел и стал ходить по столовой.
Я думал о тебе, и мне пришла вдруг на память поздняя осень на Севере и одинокие мои скитания. Однажды я возвращался с охоты вечером, и была такая же тьма, как и сегодня, вдобавок еще дождь моросил, и я заблудился. Отшагал за день я не меньше сорока километров, ружье и рюкзак казались мне до того тяжелыми, что готов был бросить их.
Я уж потерял всякую надежду выйти к жилью, но не это меня угнетало, – хоть кругом на сотни километров были глухие леса! – а угнетало то, что все было мокро, под ногами чавкало и не было никакой возможности развести костер, отдохнуть и обсушиться.
И вот далеко, как затухающая звезда в космосе, мелькнул мне во тьме желтый огонек. Я пошел на него. Еще не зная, что это – костер ли охотников, окошко ли лесного кордона, – я упорно шел к этому огоньку, скрывавшемуся иногда за стволами деревьев и снова показывавшемуся, и мне сразу стало хорошо: вообразились какие-то люди, разговоры, тепло, свет, жизнь…
И вспомнив этот давний случай и думая о тебе, я почувствовал вдруг, как мне стало весело, недавнюю тоску мою как рукой сняло, и снова захотелось жить.
Гагра, декабрь 1973 г.
Был один из тех летних теплых дней…
Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас, среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточки, долго разглядывая какую-нибудь хвоинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределенная полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать.
Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда спаниель Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и, по-волчьи выставив плечо, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофейные глаза и молил тебя, ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хвостом и залился бы заговорщицким лаем. Но ты почему-то боялся Чифа, опасливо обходил его, обнимал меня за колено, закидывал назад голову, заглядывал в лицо мне синими, отражающими небо глазами и произносил радостно, нежно, будто вернувшись издалека:
– Папа!
И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук.
Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя.
Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с нежностью, не заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете, а ты, конечно же, не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого…
Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег еще с вечера или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голгофу, шел к своему дому?
Ведь первый снег так умиротворяющ, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы…
И когда, в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, неотступная мысль? А давно, наверное… Ведь говорил же он мне не раз, какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осенью, когда живет на даче один, и как ему тогда хочется разом все кончить, застрелиться. Но и то сказать – у кого из нас в минуты тоски не вырываются подобные слова?
А были у него ночи страшные, когда не спалось, и все казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, завораживает. А это ведь смерть лезла!
– Слушай, дай ты мне, ради бога, патронов! – попросил он однажды. – У меня кончились. Все, понимаешь, чудится по ночам, ходит кто-то по дому! А везде – тихо, как в гробу… Дашь?
И я дал ему штук шесть патронов.
– Хватит тебе, – сказал я, посмеиваясь, – отстреляться.
А какой работник он был, каким упреком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придешь к нему – и, если летом зайдешь со стороны веранды, – поднимешь глаза на