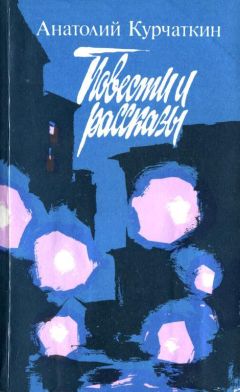Странное воспоминание мучит меня. Будто я лежу под черным низким потолком, он словно бы неторопливо покачивается, то наплывая, то удаляясь, и весь в зыбких, дрожащих, слабых красных отсветах, душа моя переполнена величайшим покоем, торжественна и беспечальна, и масса звуков вокруг: негромкий металлический звяк, тихий скребущий шорох, приглушенные, словно бы запредельные голоса, невнятно произносящие что-то, и мягкий сухой треск временами…
Что это? Откуда это во мне? Может быть, все это следовало бы назвать видением, но это не видение, потому что в расплывчивой ясности видения всегда есть некая неотчетливость конкретности, а в том, что возникает в моем сознании, во всей этой туманной зыбкости окружающего мира такая вдруг мощная, твердая конкретика чувствования, такая острая пронзительность и разнимающая душу сладкая горечь именно в о с п о м и н а н и я…
Я боюсь его. Я не знаю, что оно значит, я не понимаю, откуда оно, но пуще того я боюсь его потому, что вслед ему входит в меня глухая, сдавливающая горло тоска, наваливается мрачная тяжелая раздражительность, я перемогаю себя, креплюсь изо всех сил, надеюсь всякий раз, что переборю, одержу верх, и всякий раз оказываюсь побежден…
Сегодняшним утром это воспоминание всплыло во мне вновь.
Поезд тяжко и монотонно грохотал колесами на стыках рельсов, я уже проснулся, но лежал на своей верхней полке с закрытыми глазами, слушая этот однообразный железный гул, и вдруг оно пронзило меня, и я вытянулся под тонким железнодорожным одеялом, как прошитый током, сердце мне проняло острой болью, и глазам сделалось горячо от спазмы слез в горле.
Иногда в такие минуты мне кажется, что если б я мог и в самом деле заплакать, слезы бы облегчили меня и все изменили, но настоящих слез нет во мне — последний раз я плакал в четырнадцать лет. Я плакал, уткнувшись лицом в грязную, в потеках сырости стену, взахлеб, катаясь головой по этой шероховатой, обдирающей лоб стене — в арке дома на площади с памятником великому поэту, напротив здания «Известий», возле спуска в подвальный мужской туалет. Трое здоровых «бродвейских» стиляг, вывернув руки, обшаривали мне карманы, и один, обшманывая карманы брюк, со смешком больно ущипнул меня сквозь тонкую материю кармана за мошонку, но я тогда не от этого разрыдался. Когда они обшманывали меня, завернув за спину руки, из туалета, неторопливо и солидно ступая по ступеням, поднялся отцов сослуживец, не сослуживец, нет, — друг, друг дома даже, откуда и знал его, я закричал, рванувшись к нему, и он, выстрелив в меня испуганным быстрым взглядом, отвернул голову и пошел, пошел, чуть ли не побежал из подворотни на улицу…
С ума сойти, как давно это было — двадцать уж лет назад.
И как это все связано в мозгу, какими нитями сшито? — всякий раз, как привидится мне этот низкий черный потолок, мне вспомнится — через мгновение или через долгие часы, но всегда обязательно, — и тот шмон у общественного туалета с выкрученными руками, тот стыдный, унизительный щипок сквозь карман, тот быстрый испуганный взгляд бегущего из подворотни взрослого человека…
Отпуск был закончен, завтра надлежало выходить на работу. Я снова лежал — теперь уже на кровати в общежитии, забросив за голову руки, не сняв туфель и поместив ноги, чтобы не испачкать покрывала, на ободранную никелированную спинку.
Отпуск был веселым и бездарным, две недели его, как один день, были праздно разбазарены на бессмысленное шатание по городу-курорту Сочи, по его пляжам и всяким забегаловкам, и вот все кончилось, и вот я вернулся — здравствуй, милый край!..
Я рывком сбросил ноги на пол, встал, прошелся по узкому проходу между двумя кроватями к окну, назад к двери и снова к окну. Пыльная, прожаренная солнцем улица без единого деревца, загибаясь коленом, спускалась с горы к Дворцу культуры, чахлый парк перед фасадом дворца — четыре десятка тонколапых тополей с тряпичными серыми листьями — казался издыхающим от удушья. Улица была совершенно пуста.
Завтра на работу. А, черт!..
Вздымая густое, тяжелое облако пыли, прокатилась по улице и около дворца свернула к зданию управления карьером черная начальническая «Волга».
Что нужно, какая сила должна держать человека в равновесии, чтобы он мог вот так, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, втиснутый в восьмичасовой замкнутый суточный цикл, мотаться в одном хомуте, не меняя его, натягивать все те же дряхлеющие вместе с ним старые постромки, бежать по одной и той же дороге, все по одной и той же — изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год?.. Снова мне с завтрашнего дня, сменному электрику ремонтно-механического цеха комбината, чистить пригары на залипающих контактах в пультах управления, выискивать сгоревшие реле, менять искрящие щетки в двигателях — в общем, как указано в инструкции о моих обязанностях, поддерживать в исправности электрооборудование цеха… А, черт! Здравствуй, милый край…
Я пробрел обратно к кровати, сел, вытащил из-под нее чемодан, раскрыл — и тут же захлопнул: я забыл, что я хотел взять.
В дверь постучали, и, не успел я крикнуть, чтобы входили, она открылась. Через сколько общежитий я прошел, это неотъемлемое качество всякого общежития: к тебе вваливаются, не спрашивая на то никакого твоего согласия, не считаясь ни с каким твоим желанием.
На пороге стоял Макар Петрович, комендант.
Нынешней весной я пил за здоровье Макара Петровича на его пятидесятитрехлетии. Из этих пятидесяти трех тридцать пять он култыхает на протезе, сделавшись от малоподвижной жизни тучным и задыхающимся, правый глаз у него задернут бельмом. Ногу ему оторвало при бомбежке эшелона, в котором он, новобранец образца сорок третьего года, ехал на фронт, а бельмо стало вдруг затягивать глаз годика через полтора, и до сих пор, при случае, он крякает сокрушенно: «Не могло раньше сесть! Хоть бы нога тогда целой осталась».
— Виталю Игнатычу! — сказал Макар Петрович, входя в комнату и выбрасывая вверх руку со сжатым мохнатым кулаком. Почему-то он никогда не произносил мое имя полностью, всегда усеченно, пусть даже языку это было не совсем ловко. — Мне сейчас на вахте докладывают — приехал! Приехал — и не заглянул. А? Как же так?!
— Ну, ты уж хочешь, чтоб я к тебе, как к генералу, на доклад приходил, — заставляя себя улыбаться, поднялся я с кровати навстречу ему, и мы пожали друг другу руки. — Или ты себя уже произвел?
— Так обо мне думаешь? — сделал он оскорбленное лицо, прижимая свой жирный двойной подбородок к шее. — Я что, узурпатор какой, чтобы самому себе звания присваивать? Во, все мое звание, — наклонился он и похлопал себя по протезу через штанину просторных, бог весть с каких пор сохранившихся у него парусиновых брюк. — Все и навсегда. — Распрямился, крякнув, и, поглядев на меня секунду молча, развел руками: — Ну, с возвращеньицем!
— Вот сразу бы так-то, — сказал я. — А то: чего не доложился, не отчитался… Я уж подумал, может, это не ты, может, тебя подменили кем-то.
— Ну да, ну да, найдут мне замену!.. — вновь с охотою подхватил мое зубоскальство Макар Петрович. Он любил поговорить с такой вот шутейностью, почесать, что называется, языком — русская исконно черта. — Ну, чего, как там на югах-то, значит? — спросил он затем, опускаясь на кровать Мефодия, моего соседа, и вытягивая вперед протез. — Жара?
Я тоже сел на кровать, только, естественно, на свою, сел прямо с ногами и прислонился к спинке.
— Жара, знаешь, Макар Петрович, жара… Правда, чуть-чуть поменьше, чем здесь.
Он захохотал, закидывая назад голову и постукивая деревяшкой по полу — была у него такая привычка: смеясь, пристукивать протезом, как бы в изнеможении.
— Ну так, значит, не рекомендуешь?
— Нет, не рекомендую. — Я помолчал. — Что-то в этом во всем бездарное… животное: пляж, море…
— Сам-то ездишь? — перебил он меня, продолжая похохатывать.
— А черт его знает, Макар Петрович… черт его знает! — Я ударил себя ладонью по колену и потер его, будто мог таким образом снять раздражение, от которого ноги потрясывало мелкой нервной дрожью. — Вроде отпуск, вроде надо куда-то ехать… не сидеть же на месте!
— Ну да, ну да, — сказал он, покивав. — Не очень, в общем, доволен. Ага… Вот то-то я никуда и не держу путь. К себе на родину, недалеко, благо. Посидел, побродил, с мужиками потолковал… и хорош, и хорошо.
— Да, когда со смыслом каким-то едешь — это хорошо. Это хорошо… со смыслом… — Я опять помолчал, ожидая, может быть, Макар Петрович что-нибудь ответит на эти мои слова, но он не ответил, просто сидел, смотрел на меня, улыбаясь, и я спросил: — Ну, а что у нас здесь нового?