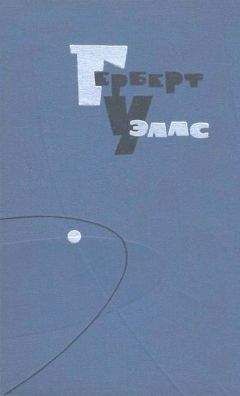Найман Анатолий Генрихович родился в Ленинграде в 1936 году. Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Живет в Москве. Постоянный автор “Нового мира”.
* *
*
Начинается с голоса. То есть доносится крик.
Что-то клекота птичьего вроде. И он нарастает.
В это время с запруды сползает туман, как парик,
обнажая серебряный череп. И лебедь взлетает.
Проступают слова. Но не в них откровенье, не в них.
В иерейском их пафосе, вот в чем. Гримасой раввина
и одышкой кюре чья-то речь вырождается в стих —
для кого? — для собравшихся в креслах с вином у камина.
Этих жар литургий не словарная печь, а гортань
накалившимся хрящиком вольтовых дуг нагнетает:
повелитель ее и слуга, богоравная рвань,
разжимает уста, и из них белый лебедь взлетает.
Не за смыслом уже, а за беглым следя по лицу
дуновеньем от взлета, и смысл его мало-помалу
начинает ухватывать слух, благосклонный к певцу,
и бокал, поднимаясь, звенеть не мешает бокалу.
Этот эллинский звук европеец, подросток-старик,
как струну, подголоском в свой собственный гул заплетает,
в иудейски скрижальный, свободный от звона вериг,
отчего с языка, как с реки, белый лебедь взлетает.
* *
*
Этот июньский день
вписан в ничто — и ни в что
больше. И думать лень
позже о нем. Точней,
времени нет. Ничего нет.
Разве что душу тронет
что-то вроде войны,
лепящей кровь и родину,
или триумфа матери,
в родину влившей кровь.
Только они хранят
день этот, лето, всю жизнь
в мелких июньских цветах
и в перезревших звездах,
обесцвеченных светом.
Хрупкому танцу подвластен
выбор памятной даты
и соцветьям резным.
Слезы льются напрасно,
дух непоколебим.
* *
*
Сицилийского он не глотнет, наслаждаясь, вина,
ни кифара, ни пение птиц не вернут ему сна,
потому что он болен смертельно. Точней, умирает.
Но сама по себе продолжается с жизнью игра:
веселее, чем хочет он, дети кричат со двора,
на углях у старухи вздремнувшей кефаль подгорает.
Скоро век, как про это на русском писать языке
научил нас еврей, проносивший слова в узелке,
как улитка свой дом. Узелок завязавший на память
о таких дословесных, как “солнце”, “вода” и “земля”, —
дал обет каковые он веточками миндаля
в честь свою и во имя, хоть звался иначе, обрамить.
Здесь проехался шинами дутыми велосипед,
распоровший дорогу, как плуг реактивный торпед,
прочертивший прямую одну по песку и по глине —
клинописную строчку со словом разборчивым “был”.
Про кого, неизвестно. Письма сохранившую пыл —
непонятно зачем. И не в буквах, а в зубчиках линий.
* *
*
Мы желаем видеть нашего царя.
Книга Исхода.
Что бы там ни возникло,
ни разгорелось, ни сгнило,
где бы ни проканало,
мы хотим это знать.
Пусть с полногтя, с полмига,
c тень декрета и мифа,
с проблеск воды в канаве —
мы, плебеи и знать.
Мы хотим это видеть.
Что, понять, это значит.
Кто, решить, этим правит.
Верить, что всё не зря.
Мы не дадим похитить
нас просто так, без правил.
Кто вы, чтоб нас дурачить?
Видеть хотим царя.
* *
*
Темна вода во облацех грозы
и уж совсем черна в стволе колодца,
и вдруг она же — в россыпях росы:
кто хочет ошибиться, ошибется.
А мы хотим. Мы ищем целей. Цель
при этом не вдали лежит, а в хламе.
Ошибка всё, чему учил лицей.
Нам остается развести руками.
И в вещи те вглядеться, цены чьи
ничтожны: ливень, нам умывший лица,
и жажду утолившие ключи —
то, для чего и стоит ошибиться.
И ты, в росинках пота в свете рамп
певец, убавь улыбку. Мы — так зыбко:
мы... ты... несчастный я... несчастный ямб.
И жизнь, и песнь с расчетом на ошибку.
* *
*
Авто-всех-биография —
чистой воды роман.
Скрежет подошв по гравию:
я уезжаю, мам.
И пошло и поехало:
я уезжаю, Люсь.
Ох вы, барышни Чехова.
Ладно, я остаюсь.
Помыслы жгуче молоды,
но не сказать, дурны.
Две войны и два голода,
красный кирпич тюрьмы.
Полупрозренья гения
в области мнимых числ.
Я с вами рву, Тургенева
циник и нигилист.
Спор, обида, пощечина:
прочь от меня, бунтарь!
Документы просрочены.
Ночь, аптека, фонарь.
Тоталитарного варева
смрад в лабиринте зим.
Гарибальди, я сваливаю
в Штаты, но через Рим.
Жизнь, из бутылки выгнанный
в плоть скудельную джинн,
партии наши сыграны,
мы расстаемся, жизнь.
На сто страниц приключения,
на две главы любви,
книга легкого чтения,
графия... авто... би.
* *
*
Летит, хоть крылом и не машет,
на синем белеет вдали.
Кувшин васильков и ромашек
ему отвечает с земли.
Что скажешь, художник? Попробуй
снежинку из класса машин
над зренье напрягшей Европой
свести — и с цветами кувшин.
Срисуй ойкумену как короб,
который из линий сплели
натужная тяга моторов,
недвижная тяга земли.
И наш на траве над скатеркой
в Булонском профанном лесу
июльский пикник, распростертый
под небом с бельмом на весу.
Еврейский сонет
Одно надорванное сердце стоит больше,
чем тридцать шелковых раввинских сюртуков
на территории ясновельможной Польши
под пеплом бархатным ашкеназийских слов.
Ты что же не прорек, а, пятикнижный Мойше,
про племя, в списках чьих не числится ни вдов,
ни сирот? Чей и сам язык умолк? На кой же
нам знать, что значило когда-то мазл’тов?
Один я помню, как в те дни у деда пахнул
сюртук, поздней на нем распоротый металлом
под левым лацканом. Теперь я тоже дед.
Забвенью все равно, где тлеть, в большом иль малом.
Вся выветрилась гарь. Я сосчитал и ахнул:
еще не минуло семидесяти лет.
Русский сонет
Перестреляны вещие волки,
но сладка золотая кутья,
и завернуты в бархат осколки
пыльных верст от жилья до жилья.
Где фольга полированной Волги —
умывальная чаша твоя,
как мои ни грязны и ни долги
ночи, в стаю сбивал их не я.