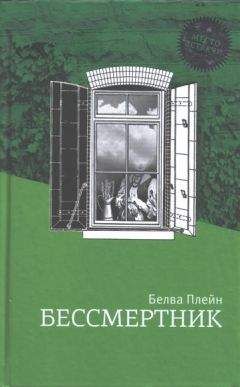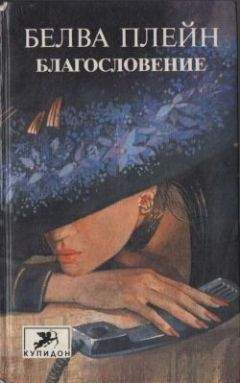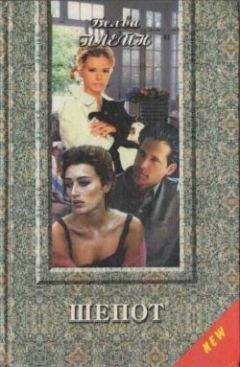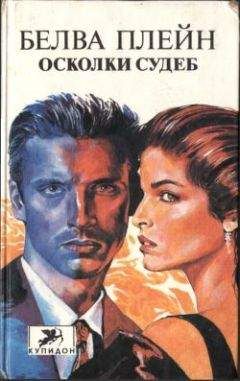Моему мужу, спутнику всей жизни
Род проходит, и род приходит,
а земля пребывает во веки.
Екклесиаст
Книга первая
ТЕРНИСТЫЕ ПУТИ
1
Вначале было тепло. Теплая кухня. Стол, черная чугунная плита и выцветшие обои в красный цветочек. Девочка лежит в кроватке, в тепле, а мать неспешно и уверенно ходит от стола к плите, от плиты к столу. Она напевает, и тихий голос ее чуть подрагивает; песенка, хоть и детская, не баюкает и не смешит, девочке слышится в ней печаль.
— Не пой, — командует она.
Мать удивленно смолкает.
— Представляешь, — рассказывает она потом мужу. — Анне не нравится мой голос! Она сегодня не позволила мне петь.
Отец смеется и наклоняется над кроваткой, берет Анну на руки. У него песочно-рыжая борода и серо-голубые глаза. Отец нетороплив и ласков, особенно когда обнимает маму; девочке тогда хорошо и спокойно.
— Поцелуй маму! — велит она.
Родители снова смеются, и девочка понимает: она сказала что-то смешное и они ее любят.
Длились похожие друг на друга дни и годы. Мама сновала от стола к плите, от плиты к столу. В мастерской, что примыкала к кухне с улицы, папа тачал ботинки и выделывал из кожи конскую упряжь. На широкой кровати в задней комнате мама рожала на свет детей. Анна запомнила, как родилась двойня, два мальчика, рыжие, как она и папа.
По пятницам на стол стелили льняную скатерть, давали к чаю сахар и белый хлеб. Папа приводил из синагоги нищих; они были грязные и дурно пахли. Их угощали самым вкусным: сливовым повидлом и куриной грудкой. В комнате царил полумрак. Дрожащий свет от единственной свечки пронизывал мамину руку, когда она колдовала над праздничной трапезой, и мерцал на жемчужных капельках-сережках. В мамином лице и словах, казалось, сияла высокая и прекрасная тайна.
И девочка думала, что мир незыблем и останется таким навсегда. Она не могла представить, что кто-то где-то живет иначе. В местечке была всего одна улица — летом пыльная, зимой топкая или обледенелая; потом улица превращалась в дорогу, доходила до реки и, перебравшись через мост, тянулась мимо других, точно таких же еврейских местечек. Дома цеплялись друг за дружку вдоль улицы или лепились вокруг деревянной синагоги, базара и школы. Все тут тебя знали и называли по имени.
А те, кто не знали тебя — чужие, — жили за рекой, напротив, где над деревьями торчал острый шпиль костела. Дальше, на лугах, пасся скот, а еще дальше ветер колыхал пшеницу, и колосья то клонились до самой земли, то снова вставали сплошной золотой стеной. На другой берег отправлялся по утрам разносчик молока и возвращался с двумя тяжелыми деревянными ведрами на коромысле. Местечковые за реку ходили редко. Да и зачем, если ты не молочник и не торговец? Иногда, впрочем, мама брала девочку с собой на тот берег — купить овощей или яиц.
Дни были отмерены и поделены папиной молитвой: утренней, дневной, вечерней; а еще — уходом и приходом братьев. Они ходили в школу в черных костюмчиках и в фуражках с козырьком. Недели тоже отмерялись строго: от субботы до субботы. Год длился от зимы до зимы, тихой, с бесшумно падающим снегом и голосами, которые звонко и далеко разносились в стылом недвижном воздухе. Потом снег превращался в дождь, и сирени стояли в саду, вымокшие насквозь, и белые и лиловые цветочки летели с веток в грязь. А потом ненадолго наступало лето. И снова — холода.
Душным жарким вечером Анна сидит на ступенях крыльца и смотрит на звезды. Из чего, интересно, они сделаны? Она слышала, что вроде бы из огня. И Земля тоже сделана из огня, и, если взглянуть на Землю со стороны, она сверкает, как звезда. Неужели правда?
Папа не знает, его не занимают такие вещи. Его вообще не интересует то, чего нет в Торе. Мама вздыхает и говорит, что тоже не знает. Хорошо бы женщины могли получать образование и узнавать обо всем на свете. Мама слышала: где-то далеко жена раввина открыла школу для девочек. Там, наверно, и про звезды учат, и на других языках разговаривать, и еще многому другому. Но Анне в такую школу не попасть — слишком дорого. Да и к чему все эти знания здесь, в местечке, какая польза от них для жизни?
— Хотя, — добавляет мама, — не во всем надо искать пользу. Некоторые вещи просто красивы, прекрасны сами по себе. — Мамин взгляд устремлен вдаль, во тьму. — Может, и жизнь со временем изменится, кто знает?..
Анна об этом не задумывается. Звезды мерцают, искрятся. Воздух — точно шелк. На горизонте сбиваются в стадо облака, ветер приносит глоток прохлады. В доме напротив со стуком закрывают на ночь ставни: клик-клак. Анна встает и идет на кухню.
Порой она слышит обрывки родительских разговоров; разговаривают они каждый вечер, вполголоса или шепотом; обрывки складываются постепенно во что-то понятное. Родители говорят об Америке. Анна уже видела карту и знает: если ехать много дней по земле, где они живут — она называется Европой, — то в конце концов упрешься в океан. Океан — это много воды. Океан еще шире той земли, которую ты проехал. По нему надо плыть на корабле много дней. От воображаемого путешествия замирает сердце.
У многих местечковых родственники уехали в Америку. В Нью-Йорке живет мамина троюродная сестра, Руфь, ее увезли туда еще до рождения Анны. Почта приносит письма, похожие на сказки: в Америке все люди равны, и это очень хорошо, потому что никто не делит народ на бедных и богатых. Там настоящая справедливость, ты ничем не лучше и не хуже другого. А еще в Америке можно стать очень-очень богатым, носить золотые браслеты и есть на золоте и серебре.
Папа с мамой давно уже ведут разговор об отъезде, но их всегда что-то останавливает. Сначала у бабушки случился удар. В Америку ее, обезножевшую, лежачую, не впустили бы, а уехать и оставить ее одну было нельзя. Потом бабушка умерла, но родились близнецы, Эли и Дан. А следом за ними Рахиль. А после Циля. И папе теперь надо накопить побольше денег. Так что придется еще год-другой подождать.
Анна понимает: они не уедут никогда. Просто родителям надо перед сном поговорить об Америке — как о проржавевшей кастрюле, о соседях, деньгах и детях. По привычке. Да, они останутся здесь навсегда. И когда-нибудь, еще очень нескоро, Анна вырастет, станет невестой, как Красотка Лея — та, что живет сразу за мостом и помогает своему отцу ходить за курами. Анна тоже будет невестой, а потом ее, в белой фате, под расшитым покрывалом, поведут в синагогу, и кругом будут петь скрипки. А после она станет матерью и будет лежать на кровати, как мама, с новорожденным младенцем. Но жизнь останется прежней, и папа с мамой будут всегда — не постаревшие, а такие, как сейчас.
И дом их тоже вечен, их надежный, уютный дом. И Рахиль будет так же шевелиться рядом во сне. И старый пес звякнет цепью, вылезая из конуры. И ветер заколышет занавеску, и летние ночи будут пахнуть сеном и сосновыми иглами, и будут цвести у калитки мамины желтые розы. Ночные птицы… Кваканье лягушек… Я существую, я живу здесь, я засыпаю…
2
Когда Анна рассказывала или просто вспоминала историю Красотки Леи, речь ее — и слова, и ритм — сразу делалась, как у двенадцатилетней девочки, которой она и была в ту страшную пору.
«Мама послала меня на ферму, за яйцами. Мы с Красоткой Леей стояли у крыльца и пересчитывали яйца. Потом я попросилась зайти в хлев, теленочка посмотреть новорожденного. В хлеву я и была, когда они появились, трое, верхом на пахотных лошадях, ворвались во двор чуть не галопом.
Красотка Лея, видно, решила, что они тоже за яйцами, — улыбкой их встретила. Они спрыгнули с лошадей, один схватил ее за плечи. Они смеялись, но были злые… То есть я не поняла, какие они были, но Красотка Лея вскрикнула, и я поскорее залезла по лестнице на чердак и спряталась.
Они затащили ее в хлев, заперли дверь. Ох, как же она кричала! Они были пьяные, ругались по-польски, а глаза — точно щелочки на плоских лицах. Они задрали ей юбку — так, что лицо закрылось. Ой, сейчас они ее раздавят, раздавят! Нельзя смотреть, я знала, что нельзя смотреть, но не смотреть тоже не могла.
Как бык с коровой, ну — точно. Мы тогда шли с мамой и увидели, и мама сказала: „Не смотри“, а я спросила: „Почему?“, и она ответила: „Ты слишком мала, не поймешь. И испугаешься“.
Но бык с коровой меня нисколько не напугали. Они занимались каким-то простым, обычным делом. А тут — тут было ужасно. Сначала Лея извивалась и брыкалась, потом ее крики из-под юбки превратились в плач, она умоляла оставить ее, скулила, попискивала, точно щенок или котенок. Двое держали ей руки, а третий лег на нее сверху. Потом они менялись, пока все трое на ней не побывали. Под конец она уже не шевелилась и не плакала. Я подумала: „Боже, они ее убили!“
Они ушли, дверь оставили нараспашку. Во дворе кудахтали куры. На Красотку Лею упал свет снаружи. Она так и лежала, с юбкой на лице, голые ноги раскинуты, и меж них липкая кровь. Я еще долго просидела на чердаке, потом спустилась. Дотронуться до Леи я боялась, но все же заставила себя подойти и опустить ей юбку. Она дышала, но была без сознания. Подбородок у нее был разодран, черные косы разметались и спутались. Я подумала: когда она придет в себя, она захочет умереть.