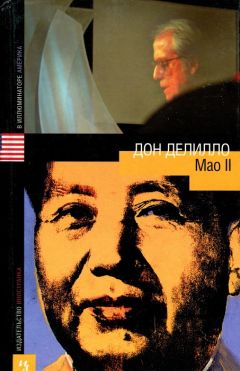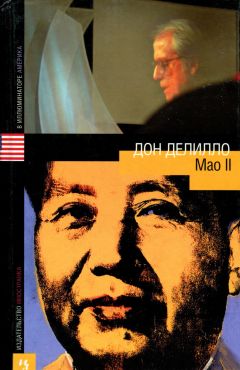Сильвия Аваллоне
Стальное лето
Моим лучшим подругам -
Элеоноре, Эрике и Альбе -
и всем тем, кто отливает сталь
Лучшие вещи в мире поблескивают от страха.
Дон Делилло, ВесыЧасть первая
Неразлучные подруги
В кружке, выхваченном линзой объектива, чуть шевелилась фигурка без головы в расфокусе — кусок тела на свету, попавший под оптический прицел.
За пару лет это тело незаметно преобразилось и теперь, летним днем, в объективе бинокля, предстало во всей красе.
Взгляд наблюдателя жадно обволакивал мельчайшие детали: завязки купального лифчика, плавок, ниточка водорослей на бедре, напрягшаяся мышца над коленом, изгиб икры, щиколотка с налипшим на нее песком.
Глаза краснели от исступленной слежки через объектив.
Юное тело снова выпрыгнуло из поля зрения и погрузилось в воду.
Спустя мгновение, через настроенный объектив с правильно выставленным фокусом, это же тело продемонстрировало роскошную гривку светлых волос и захохотало так, что, несмотря на приличное расстояние, наблюдателя тряхнуло. Он будто провалился туда, внутрь, в отверстие между белоснежными зубами.
И еще были ямочки на щеках, ложбинка между лопаток, впадина пупка и все остальное…
Она резвилась вместе со своими сверстницами, не подозревая, что за ней наблюдают, разевала рот, чтобы что-то прокричать.
Кому? И что?
Она ввинчивалась в волну и выскакивала из воды со сбившимся купальником. На плече выделялся след от комариного укуса.
Зрачки мужчины то сужались, то расширялись, как от наркотика.
Энрико разглядывал свою дочь — это было сильнее его. После обеда, если не нужно было возвращаться на завод, он следил за Франческой с балкона. Он рассматривал, изучал ее сквозь объектив рыбачьего бинокля. Франческа болтала ногами, растянувшись на полотенце рядом со своей подругой Анной, они носились вдогонку друг за дружкой, касались друг друга, дергали за волосы, а Энрико обливался пóтом на своем наблюдательном пункте наверху, зажав в пальцах сигару. Огромный, в промокшей насквозь майке, изнывающий от невыносимой жары, он не отрывал от дочери глаз.
Сам он объяснял, что начал контролировать Франческу, когда та стала ходить на море с какими-то парнями старше ее, не внушавшими ему доверия. Эти типы курили и, без всякого сомнения, баловались травкой.
Когда Энрико говорил жене о проходимцах, с которыми общается его дочь, он срывался на крик. Эти подонки курят травку, ширяются, колеса толкают и ждут не дождутся, когда трахнут нашу — мою! — дочь. Последнюю фразу он не произносил вслух, а лишь лупил кулаком по столу или по стене.
На самом деле он стал следить за Франческой еще раньше, с того самого момента, когда тело его дочурки словно вылупилось из кокона и обрело новую кожу и новый запах — древний, зовущий, вполне определенный. У малютки Франчески появились задница и пара дерзких маленьких грудок. Тазовые кости разошлись, образовав нежный изгиб между туловищем и поясницей. А он был ее отцом.
Энрико как раз наблюдал, как его дочь мечется, всем телом бросаясь вперед за мячом. Ее мокрые волосы липли к спине и бокам, облегая просолившуюся кожу.
Подростки, выстроившись кружком, играли в волейбол на мелководье, и вместе с ними, посреди криков и брызг, боролась за мяч изящная Франческа. Энрико ничуть не занимала игра. Он думал о купальнике своей дочери. Боже мой, он же ничего не прикрывает! Такие вещи следовало бы запретить. Если только кто-нибудь из этих поганых ублюдков посмеет к ней притронуться, перетяну дубиной поперек хребта!
— Что это ты тут делаешь?
Энрико обернулся к жене, которая стояла посреди кухни и подавленно на него смотрела. Розу унижало и угнетало зрелище собственного мужа, который в три часа дня стоял у окна с биноклем.
— Слежу за своей дочерью, если ты не возражаешь.
Даже ему порой было нелегко выносить взгляд этой женщины. В зрачках его жены навечно застыл немой укор.
Энрико наморщил лоб, сглотнул и пробормотал:
— Это самое малое, что я могу…
— Ты смешон! — прошипела Роза.
Энрико посмотрел на жену, как смотрят на что-то, что зверски достало:
— То есть то, что я приглядываю за нашей дочерью, тебе кажется смешным? Когда на улице черт знает что творится? Ты не видишь, что за шпана ходит на море? Что это за типы там, а?
Когда Энрико свирепел, что случалось с завидной регулярностью, его лицо багровело, жилы на шее устрашающе надувались.
В двадцать лет, когда еще не было ни бороды, ни лишних килограммов, он не был злым. Он был красивым юношей, только что получившим работу на заводе «Луккини», мускулистым, как любой, кто с детства мотыжил землю. В великана он превратился, когда работал на томатных плантациях, а потом лопатами выгребал угольный кокс. Обычный мужчина, приехавший из деревни в город с жалкими пожитками в рюкзаке.
— Ты что, не понимаешь, что она творит, в ее-то возрасте!.. И черт побери, как она одевается!
Потом, с годами, он изменился. Мало-помалу, незаметно для окружающих великан, который никогда не выезжал за пределы провинции Ливорно и никогда не видел других мест в Италии, будто бы обледенел внутри.
— Не молчи! Твою мать, ты видишь, в чем ходит твоя дочь?!
В ответ Роза мозолистой рукой чуть сильней сжала тряпку, которой только что вытерла тарелки. Розе было тридцать три года, но в день своей свадьбы она поставила на себе крест. Ее средиземноморская красота растворилась в моющих средствах, растеклась по периметру пола, который она вот уже десять лет протирала каждый божий день.
Она молчала тяжело, будто готовилась к нападению.
— Что это за парни, а? Ты их знаешь?
— Это хорошие ребята…
— Ах, ты их знаешь! Что ж тогда мне ничего не говоришь? Почему в этом доме мне никто ничего не говорит? Франческа все тебе рассказывает, так? С тобой-то она часами готова трепаться!
Роза швырнула тряпку на стол и выдохнула:
— А ты сам себя спроси, почему она с тобой не разговаривает.
Но Энрико уже не слушал:
— Мне никогда ни слова! Мне никто ничего не рассказывает, мать ее так!
Роза склонилась над тазом с грязной водой. Некоторые ее ровесницы до сих пор ходили на летние дискотеки. Она же ни разу в жизни там не была.
— Я что, идиот? Ты меня за идиота держишь? Одевается, как шлюха! А ты как ее воспитываешь, а? Ну ничего, я как-нибудь решусь…
Роза подняла таз и вылила воду в сточный желоб на балконе, наблюдая за черными комками в воронке стока. Она мечтала увидеть, как ее муж умирает, как в агонии корчится на полу.
— И пошлю вас обеих к чертовой матери, и тебя, и ее! Я зачем работаю? Ради тебя? Ради этой шлюхи?
Она бы с радостью проехалась по нему на машине, вдавила бы его в асфальт, превратила в кашицу, в гадкого червяка, какой он, в сущности, и есть.
Франческа бы поняла, если бы я его убила. Если бы только я тогда не влюбилась, если бы нашла работу, если бы десять лет тому назад ушла отсюда куда глаза глядят…
Энрико отвернулся от жены и всем своим огромным телом высунулся за балконные перила, под солнце, которое в три часа дня давило на темя свинцовой тяжестью и прибивало к земле. По другую сторону дороги пляж кишел зонтиками и голосящими купальщиками. «Скотобойня», — подумал Энрико и снова зажег тосканскую сигару, которую сжимал в пальцах, красных, коротких и мозолистых, — пальцах рабочего, который не надевает перчатки, даже когда измеряет температуру чугуна.
С одной стороны было море, которое в этот адски жаркий час заполонили подростки. С другой, вдоль пустынной улицы, — унылая физиономия типовых домов-коробок с наглухо запертыми ставнями. Мопеды, припаркованные вкривь и вкось на тротуарах, пестрели наклейками и разноцветными надписями: «Франческа, я тебя люблю!»
Под обжигающим июньским солнцем море и бетонные стены друг напротив друга напоминали жизнь и смерть в непримиримой борьбе. Ничего не поделаешь: улица Сталинграда производила удручающее впечатление на всех, кто на ней не жил. Более того, именно так люди со стороны представляли себе нищету.
Этажом выше еще один мужчина, навалившись на ржавые перила, смотрел вдаль, в направлении пляжа.
Кроме него и Энрико, никто больше не осмеливался высунуться на балкон. Солнце немилосердно палило, и крупными кусками обваливалась штукатурка.
Человечек с голым торсом захлопнул крышку мобильного телефона. По сравнению с великаном с четвертого этажа он казался карликом. Говоря по телефону, он почти что кричал — не от злости, а просто потому, что всегда разговаривал таким тоном. Он называл какие-то астрономические суммы и ни на минуту не отводил цепких маленьких глазок от пляжа, будто разыскивал что-то такое, что без очков с такого расстояния все равно не разглядеть.