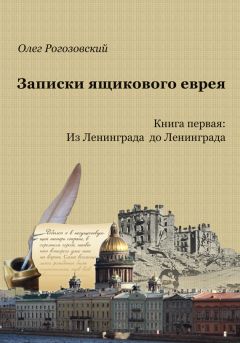Юрий Нагибин
Бунташный остров
Скворцовы давно собирались на остров Богояр; пути туда из Ленинграда комфортабельным трехпалубным туристским теплоходом вечер и ночь. На осмотр острова со всеми его пейзажными красотами и скромными достопримечательностями уходит от силы полдня, потом отдых, всевозможные развлечения, глубокий сон, как в детской колыбели, под легкую качку озерной волны, и ты — дома. Даже странно, что, живя всю жизнь в Ленинграде, они не удосужились раньше предпринять столь приятное маленькое путешествие. Это много ближе, чем манящие Кижи, куда они собирались каждый год, так и не выбравшись, но значительно дальше Орешка-Шлиссельбурга, где они тоже не бывали, в чем признавались с наигранным стыдом.
В семье никто не отличался охотой к перемене мест, влечением к старине, отечественной истории и церковному зодчеству. Жизнь семьи была «вся в настоящем разлита». Дети учились в инязе на английском отделении, мать занималась наукой — микробиологией, отец весьма убедительно изображал директора Института по мирному использованию атомной энергии.
Брат с сестрой, внешне несхожие, он — высокий, тонкий, пепельноволосый, она — маленькая, крепко сбитая брюнетка, полностью совпадали и в своих счастливых свойствах, и в молодых пороках. Оба числились отличными студентами, английский давался им без труда, что обеспечивалось редкой механической памятью и необремененностью сознания — они стряхивали с себя обузу практически ненужных знаний, как собаки — воду после купания; душевная и умственная лень подкреплялась в них страстью к развлечениям и холодной иронией ко всем проявлениям человеческого энтузиазма, пафоса и просто серьезности.
Брат с сестрой все делали с улыбкой, родители улыбались редко: с серьезным видом уходили на работу, с серьезным видом возвращались, серьезно, хотя и не часто, встречались с друзьями, серьезно отдыхали всегда в одной и той же Пицунде — дальние заплывы, подводная охота, теннис, шашлыки на костре, кино, долгий, за полночь преферанс. Считалось, что все это они любят, так же как и своих детей, и друг друга (у дочери, правда, было особое мнение на этот счет). Брат с сестрой не любили никого, кроме самих себя, но настолько чувствовали и понимали друг друга через собственный эгоизм, приверженность к удовольствиям и потребительское презрение к окружающим, что это создавало между ними доверительную близость. К родителям они относились настороженно, поскольку нуждались в них, но корыстное чувство к отцу смягчалось снисходительностью, мать они почти уважали за стойкую отчужденность, объяснить которую не умели да и не пытались — мать им не мешала.
Скворцова трогало и умиляло, что в лицах и молодых упругих телах детей соединялись, хотя и по-разному, материнское и отцовское начала. Удлиненное, сухое, сильное тело, которое он передал сыну, обрело у того мягкую материнскую пластику, а на тонких отцовских губах вдруг всплывала невесть к чему относящаяся далекая потерянная материнская улыбка; дочь, будь она повыше и поплотней, являла бы точную копию матери в ее восемнадцать, но острый, пытливый взгляд из-под очень длинных тонких ресниц был отцов, и это единственное сходство оказалось доминантой ее внешности. Скворцов видел: дети — хищники, что обеспечивало им жизнестойкость, и это его радовало не меньше, чем «документально» утвержденная в них несомненность четвертьвекового союза — время не остудило страстной любви Скворцова к жене.
Скворцову стоило немалого труда устроить эту семейную поездку, о которой он давно мечтал, — ему не хватало слишком рано эмансипировавшихся детей. И брату и сестре было безразлично, куда ехать: на север, юг, восток или запад, не волновало их и конечное место назначения: море, горы, озеро, остров, город, дачный поселок, но требовалась подходящая, настроенная на их волну компания, хорошие диски или записи, много вина, понимание с первого взгляда и возможность это понимание реализовать. Они ни за что не согласились бы на семейный компот, если б им не было обещано по отдельной каюте, если б теплоходный бар с джазом уже не получил одобрения знатоков, если б родители не предоставили им полную свободу, в том числе от экскурсии по острову, где смотреть, как и повсюду, совершенно нечего. Взрослые люди просто отстаивают свой обветшалый мир — обычная борьба за существование — перед теми, кто сгонит их с арены, и потому усиленно притворяются, будто до сих пор ценят скудные радости своей аскетической молодости.
Паша и Таня Скворцовы справедливо считали, что им повезло с предками — могло быть куда хуже; каждое покушение на их время щедро оплачивалось деньгами и подарками, незамедлительным исполнением самых сложных просьб. Паша являлся собственником однокомнатной квартиры с лоджией и «Жигулей», Таня знала, что в недалеком будущем ее ждут те же блага, но, полагаясь на собственные силы, рассчитывала достичь большего посредством раннего, тщательно продуманного брака. Она нравилась и сверстникам, и зрелым мужчинам, и старикам, что озадачивало ее брата, вовсе не ощущавшего ее притягательности, — обычная смазливая девчонка, каких тринадцать на дюжину. «Неужели ты сам не понимаешь, почему ко мне все липнут?» — однажды спросила Таня, раздраженная слепотой самого близкого человека. «Честно говоря, нет!» — «А во мне есть мамино», — произнесла она, таинственно понизив голос. «Ну и что с того?» — искренне удивился брат. В тугом, энергичном, очень современном лице сестры промелькивало сходство с уже поплывшими чертами матери, но сходство это было зыбким, непрочным, к тому же он не чувствовал очарования матери, синего чулка, зануды, безразличной к блеску сына, а этого Паша не выносил. «В матери есть нечто, — важно, свысока сказала Таня. — Поэтому отец так помешан на ней. И во мне есть нечто, и не видит это только последний дурак». Паша возмутился и дал сестре подзатыльник. Они подрались — с большим ожесточением, причем обе стороны понесли чувствительные потери. Паша не отличался великодушием и расквасил сестре нос. Помирились они перед самой поездкой на Богояр.
Уже на пароходе Паша вспомнил о недавнем разговоре — оказывается, кое-что его заинтересовало. Не слишком… Слишком не надо ничем интересоваться, а то набьешь мозоли на мозги. Но теплоход плыл мимо низких и скучных невских берегов, бар был еще закрыт, а сестра все равно торчала у него в каюте, и Паша вернулся к прерванному побоищем разговору:
— Ты считаешь мать красивой?
— Если хочешь знать, в молодости она была даже красивей меня, — заявила Таня, и у брата опять зачесались руки. — Она зачем-то уничтожила все свои довоенные карточки, но у отца в бумажнике есть крошечное фото, вырезанное из группового снимка. Какое у нее лицо!.. Нет, я, конечно, пас перед матерью, — охваченная внезапным смирением, сказала Таня. — Зато у меня есть характер!.. — Смирение отступило перед новым напором самодовольства. — А маман этим не блещет.
— Во зазналась! — восхитился брат. — Ты начинаешь мне нравиться.
— А ты мне — нет. Терпеть не могу желторотых.
Паша заводился с пол-оборота, но в поклонении сестры был уверен. К тому же сейчас его занимало другое.
— По-твоему, мать бесхарактерная?
— Конечно! Она не любит отца, а живет с ним и даже не изменяет.
— А ты почем знаешь?
— Мы как-никак соседки…
— Ну, ты сильна!.. А ее заграничные поездки? Думаешь, за красивые глаза?
— Болван!.. Мать крупный ученый. Другие нахватали должностей и премий, но если требуется наука, посылают мать. А когда придуманные командировочки, за костюмчиками для внуков… — Она не договорила. — Не знаю… Возможно, у матери есть характер… или был когда-то, но она от него отказалась. Ей так проще. Во всяком случае, дома. А на работе… — Таня пожала плечами. — Она заставила себя уважать.
— А я не верю, что мать настоящий ученый. Погасшие люди бесплодны.
— Видать, ты сильно мучаешься, что мать на тебя плевать хотела!
— Касса-то ведь у отца, — рассудительно заметил Паша, остальное меня мало волнует. Тем более что отец насюсюкался надо мной за двоих. Но ты тоже зря разыгрываешь из себя маменькину дочку.
— А я и не разыгрываю… Но тебя мать просто не видит, а меня… — Она заколебалась и вдруг сказала искренне: — То ли жалеет, то ли хочет полюбить…
— Да не может! Все это маразм. Эскимосы оставляют престарелых родителей в чумах без харчей и огня — вот правильная постановка вопроса.
— Чего ты злишься?.. Наши никому не мешают. У тебя какой-то эдипов комплекс навыворот.
— Ладно!.. — Теперь он всерьез завелся. — Ты мне надоела. И пора одеваться! — Резким движением он спустил тренировочные брюки.
— А то я тебя не видела!.. — презрительно уронила сестра, но все же вышла из каюты.
Они помирились в баре, возле стойки, где, по обыкновению, изобразили нежную парочку, чтобы спокойно, без помех отыскать себе что-нибудь подходящее. Слухи о теплоходе в целом и о баре в частности не были преувеличены. Первоклассная посудина, оборудованная по последнему слову техники, со вкусом отделанная деревом; скрытый свет, мягко разливающийся по стенам и потолкам, превосходная мебель, особенно хороши глубокие кресла и диваны, обитые красной кожей; полуовальная стойка бара обставлена высокими тяжелыми устойчивыми табуретами, сиденья тоже обиты красной кожей; пышногрудая, чернокудрая, испанского вида барменша со смуглыми полными руками ловко сбивала коктейли; хорошо одетая публика; правда, джаз с электрогитарами и прочей электромузыкальной техникой был шумноват, но это неизбежно, таково повсеместное требование отечественного вкуса — игра под сурдинку считается халтурой, — словом, все соответствовало высшим современным требованиям.