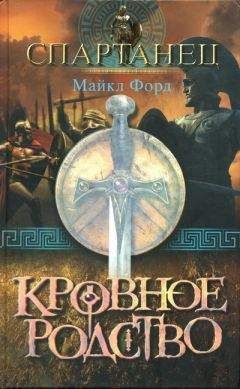По строгому счету их не назвать людьми одного поколения — Кэтрин Энн Портер (1890–1980) была старше Юдоры Уэлти (р. 1909) почти на два десятка лет, — однако в литературе два этих имени издавна стоят рядом. И не без причины.
Во-первых, обе принадлежат литературе американского Юга, которую мы знаем главным образом по Фолкнеру, не представляя себе истинного объема ее богатств. Может показаться, что для Портер факт ее происхождения из Техаса не так важен, как кровное родство со штатом Миссисипи для Уэлти, которая прожила в Джэксоне, столице этого штата, фактически всю жизнь. Но точнее было бы сказать, что в книгах Портер просто не столь ощутимо напоминают о себе ее южные корни. А на самом деле такую повесть, как «Бледный конь, бледный всадник», мог написать только прозаик с американского Юга. И только южанка могла написать роман «Дочь оптимиста».
Во-вторых, вовсе не волей случая именно Портер вводила Уэлти в мир признанно высокой литературы. До 1941 года, когда вышел сборник ее рассказов «Зеленый занавес», Уэлти печаталась в провинциальных журналах, писала для радио и для газеты, выходившей в Мемфисе. Она не притязала на лавры, хотя один ее рассказ получил премию О. Генри — самую престижную для новеллистов.
Своим призванием она считала фотографию. В Нью-Йорке прошла выставка ее снимков, сделанных в негритянских лачугах среди заброшенных хлопковых плантаций, — экономический кризис ударил по фермерам Юга, быть может, больнее всего. Журналистика и фотография виделись Уэлти ее главным занятием до конца дней.
Но из рассказов, писавшихся как бы между делом, составилась книжка. И эту книжку сразу заметили, заговорив об Уэлти как о ярком, многообещающем даровании.
Предисловие к «Зеленому занавесу» написано Портер.
У нее самой к тому времени было уже бесспорное литературное имя. Завоеванное еще в 20-е годы, признание Портер упрочилось с публикацией сборника рассказов «Иудино дерево в цвету» (1930) и повести «Бледный конь, бледный всадник» (1938). Задолго до «Корабля дураков» (1962), своего единственного романа, Портер выдвинулась в первый ряд американских прозаиков. Уэлти обретет этот статус гораздо позже — лишь с появлением «Проигранных битв» (1970) и «Дочери оптимиста» (1972).
Большая форма давалась им обеим трудно. Портер работала над «Кораблем дураков» пятнадцать с лишним лег. Уэлти написала три романа — кроме двух названных, еще «Свадьбу в Дельте» (1946), — но так и не считает, что это ее жанр. Дарованию Уэлти органичнее новелла, причем, как правило, с ослабленной фабулой, а иногда почти бессобытийная — просто цепочка эпизодов, несколько зарисовок, соединенных как бы на живую нитку, или же «остановленное мгновение», если воспользоваться заглавием рассказа, которому она сама придает программное значение. А для Портер излюбленным жанром оставалась повесть — лирическая, ассоциативная, с обязательным присутствием символики, придающей философскую емкость незатейливым историям, которые рассказаны на ее страницах.
Была между двумя выдающимися писательницами родственность таланта и общность генеалогии, было нечто схожее в их мироощущении. Однако прежде всего их связывала одна и та же духовная почва. По существу, обе они сформировались в атмосфере межвоенного двадцатилетия, и эта атмосфера плотно облегает прозу как Портер, так и Уэлти. Даже созданную через много лет после того, как отошла в прошлое вся та эпоха, пробудившая — и обманувшая — столько надежд на радикальное обновление жизни.
Представляя Уэлти широкой аудитории, Портер писала, что при всей неопытности автора ее рассказы не содержат ничего «фальшивого и вымученного», оставаясь органичными своему материалу. Внешне они просты, но при кажущейся обыденности людей и событий обязательно содержат в себе что-то причудливое, как сама запечатленная в них жизнь. Добиться такого эффекта способен лишь прозаик, обладающий безукоризненным чувством правды. От Уэлти можно ожидать многого: «Да, это дебют, и замечательный, но я твердо верю, что только дебют».
Буквально теми же словами Портер могла бы сказать о себе самой. В книгах Портер тоже не отыскать ни единой фальшивой ноты, а легкий элемент гротеска, как и некоторая недосказанность, оставляющая простор читательскому воображению, — коренные свойства ее прозы. Здесь всегда выражено намного больше, чем сказано впрямую. Это один из самых безошибочных признаков выдающегося писательского мастерства. У Портер оно обнаружилось буквально с первых произведений.
Что же касается ее литературного дебюта, он оказался по-своему не менее впечатляющим. Дебютом был рассказ «Мария Консепсьон», появившийся в журнале «Сенчури» под самый конец 1922 года.
За этим рассказом стоял непосредственный биографический опыт.
«Я пишу о Мексике, потому что это родная мне страна», — объяснила Портер своим интервьюерам. Впервые она попала туда в 1920 году; еще повсюду чувствовались отзвуки недавно завершившейся Мексиканской революции со всеми ее дикими эксцессами, о которых уже в наши дни напишет Карлос Фуэнтес. Хотя целью Портер было собрать материал для очерка о народном искусстве, ее больше захватила сама действительность. Она была поразительно яркой и драматической. Ни следа той сонной скуки, того самодовольного благополучия, которые с юности внушали Портер отвращение.
Очерк о мексиканской культуре она напечатала в том же году, что и «Марию Консепсьон», однако гораздо важнее, что в Мексике Портер поняла свое истинное призвание: не журналистки, а прозаика.
Журналистикой она начала заниматься рано — обстоятельства заставили. Вопреки романтической атмосфере повестей и рассказов Портер о детстве в Техасе, на самом деле не было ни особняка с прекрасной библиотекой, ни преданных слуг из числа бывших рабов, ни школы-пансиона при монастыре. Был убогий городок Кайл, почти развалившийся дом с протекающей крышей, изношенные платья и башмаки, которые дарили полуголодным детям Харрисона Портера сердобольные соседи. Сам Харрисон, школьный инспектор, овдовев, когда Кэлли, младшей из дочерей, едва исполнилось два года, опустился и жил скудными милостями своей суровой тещи. В 1901 году умерла и она; дом продали за десять долларов, девочек пристроили в колледж, устроенный филантропами-прихожанами методистской церкви, но Харрисона угораздило непочтительно высказаться о религии, после чего благодеяния, разумеется, прекратились.
С четырнадцати лет Кэлли оказалась предоставленной самой себе. Два года спустя она вышла замуж. К своему супругу, служившему на железной дороге, никаких чувств она не испытывала, но он помог ей с сестрой, когда они затеяли «студию музыки, спорта и театра», а потом погасил их долги. Брак продолжался семь лет. При разводе разрешалось менять имя. Так появилась в мире Кэтрин Энн Портер.
В повести «Тщета земная» (1938) и нескольких примыкающих к ней новеллах Кэлли, ставшую Кэтрин Энн, зовут Миранда. Автобиографические произведения Портер созданы через много лет после описанных в них событий, и незачем пояснять, что это художественная проза, то есть вымысел, а не просто рассказ о реально бывшем. Правда деталей вовсе не являлась целью автора — почти все и в судьбе Миранды, и в ее предыстории не «вспомнилось», а сочинено. Однако атмосфера, в которой росла Портер, передана на этих страницах с подкупающей достоверностью.
И Кайл, и поселок Индиан-Крик, где родилась Портер, на исходе прошлого столетия были типичнейшим захолустьем, однако как раз в силу своего положения глубокой провинции, туго поддающейся переменам, сумели почти в неприкосновенности сохранить все, что отличало Юг от остальной Америки, — стиль отношений, нравы, понятия, социальную психологию. Высокие иллюзии и сильно приукрашенные предания держались здесь с необычайной цепкостью, а движение жизни едва можно было распознать — оно угасало, натолкнувшись на стойкость традиций. Бесчисленные условности местное общество воспринимало как непререкаемые нормы, выспренняя риторика значила для него куда больше, чем прозаические истины. Живыми человеческими потребностями без колебаний жертвовали, если они противоречили окостеневшим установлениям, которыми превыше всего ставились изысканность, галантность, рыцарский культ чести, высокомерная надмирность и аффектированная безупречность этикета.
Потрепанные романтические идеалы все еще обладали строгой обязательностью для этого мира остановившегося времени, где прошлое было героизировано до обожествления, а настоящее воспринимали лишь как ничтожную суету. Считалось естественным и необходимым жестко ограничивать свободу духовного развития личности, которую заставляли поступаться своими чувствами и запросами во имя неписаного, но всевластного кодекса поведения, подчинявшегося ходульно понятой романтике. Оскорбив приличия, бунтарка Эми тяжко расплачивается за собственное своеволие, и печальный рассказ о ее участи, который Миранда выслушивает себе в назидание, — лишь одна из многих историй подобного рода, знакомых Портер с детства. Они дают ощутить, какой безысходной драмой оказывалось существование в этом оранжерейном микрокосме, старательно, а при необходимости и агрессивно оберегаемом от любых посягательств со стороны «взбаламученной, бунтующей души».