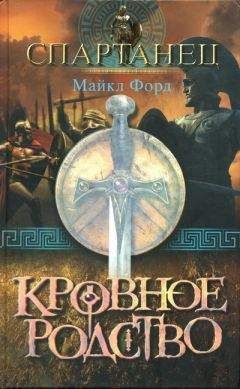Конечно, в своей верности философии гуманизма, для которой человек при всех обстоятельствах остается в центре мироздания, Портер была личностью 20-х годов, чересчур прямолинейной и наивной, на взгляд не в меру искушенного послеосвенцимского поколения. Время между двумя мексиканскими поездками — 1920 и 1929 годов — было и вправду решающим для всего ее будущего. Тогда Портер пережила свой «красный период», и ей казалось, что дело жизни найдено. Это была иллюзия — точно так же, как ожидание конечных истин о мире, которые непременно откроются, если по-настоящему глубоко познать мексиканский космос бытия. Однако эфемерность надежд на приближающуюся революцию выявится позднее, а пока была потребность реальным делом помочь торжеству социальной справедливости. Была работа в комитете защиты Сакко и Ванцетти, была бессонная ночь перед зданием тюрьмы, где они находились перед казнью — уповали на президентское помилование, которое так и не пришло.
И была — недолговечная, правда, — вера в народ. Памятниками ее остались в наследии Портер несколько рассказов и повесть «Полуденное вино» (1936). В позднейших автокомментариях Портер указывала, что из всего ею написанного эта повесть более остального насыщена памятью детства: все, вплоть до пейзажа, испепеляющей жары, запахов и звуков бесконечно долгого знойного полдня, доносит облик старого Юга, каким он навсегда запечатлелся в ее сознании. Сама история, рассказанная в «Полуденном вине», основывалась на действительном происшествии, о котором без конца судачили соседи, а ферма в Техасе — именно та ферма, где Портер жила после переезда к бабушке, выведенной в одном из ее рассказов под именем Уэзерол.
Но если в рассказе, написанном семью годами раньше, автобиографический элемент доминирует, то «Полуденное вино» — не столько возвращение к давно пережитому, сколько притча или, во всяком случае, философское раздумье над природой насилия, зла и тех «несчастных случаев», которыми заполняется повседневность нашего времени. Оброненные в «Гасиенде» слова об «экстатическом ожидании гибели» применимы к атмосфере, царящей на страницах «Полуденного вина», еще больше и, как выяснилось, характеризуют не один лишь мексиканский социальный климат. Скорее это некое универсальное состояние человечества, как с ходом лет все более удостоверялась Портер.
Описанная ею в повести кровавая драма, которая произошла как бы самопроизвольно, на поверку предстает неотвратимостью, порожденной всем характером отношений в изображаемом мире. Он, этот мир, так устроен, что в нем оказываются невозможными самые простые и естественные начала жизни по правде: старательный труд и честно исполненный сыновний долг вознаграждаются угрозой насильственного заключения в психиатрическую лечебницу, сельская идиллия взорвана вспышкой всесокрушающей ярости, а примитивные художественные запросы Хелтона, более всего на свете дорожащего своей губной гармошкой, приводят его к братоубийству, далее следует его собственный страшный конец.
Этот сюжет можно истолковать как парадоксальный или увидеть в нем не более чем трагическую случайность. Однако в прозе Портер не бывает ничего беспричинного, здесь всегда очень жесткая логика истоков и следствий. Несдержанность мистера Томпсона только кажется необъяснимой, а на самом деле это вырываются глубоко в нем затаенные страхи маленького человека, ощутившего опасность для своего наконец-то налаженного благополучия и очертя голову ринувшегося защищать его. Сама стремительность, с какой добропорядочный фермер теряет нравственный контроль над своими поступками, и полное равнодушие соседей к постигшей его беде — художественное свидетельство, которое выразительнее любых деклараций. «Красные тридцатые» были временем, когда постоянно говорились лестные, высокопарные слова о простом народе. Они звучали сладкой музыкой для многих, не исключая и Портер. Но ее взгляд писателя остался незамутненным.
И эта повесть, и еще одна, появившаяся через два года, — «Бледный конь, бледный всадник» — достаточно резко разошлись с преобладавшим в ту пору радикальным общественным настроением. Портер пришлось выслушать немало упреков в чрезмерном пессимизме, неверии в разум и прогресс, ущербном понимании истории как вереницы трагедий и т. п. Таких нападок следовало ожидать. Но время разрешило этот спор не в пользу оппонентов Портер, причем очень скоро. Повесть «Бледный конь, бледный всадник», где описаны заключительные месяцы первой мировой войны, появилась под самый конец 1938 года. До следующей — и еще более тяжелой — катастрофы из пережитых человечеством в наш век оставалось чуть больше девяти месяцев.
Ее приближение Портер, несомненно, чувствовала — об этом говорит уже заглавие, взятое из Апокалипсиса, хотя сама повесть, как почти все в творчестве писательницы, имеет автобиографическую основу. Эпидемия инфлюэнцы, бушевавшая в Америке осенью 1918 года, настигла Портер в Денвере; несколько дней врачи считали поступившую к ним молодую журналистку приговоренной. Настоящая взрослость Миранды начинается не с отречения от родни, описанного на последних страницах «Тщеты земной», а с тех утрат, которые ей суждено испытать в повести «Бледный конь, бледный всадник». Лишь тогда, перед лицом смерти, придет к ней понимание, что от прожитого невозможно отречься, даже его ненавидя. И что смерть неотвратима, но человек не должен, не вправе безропотно ей покоряться.
Обе эти темы обладали для Портер глубоко сокровенным значением, многократно повторяясь в ее прозе. Но повесть оказалась по своему смыслу намного шире, чем была задумана автором. Портер писала о пережитом ею потрясении, о сугубо личном, интимном. Постоянно присутствующая в ее рассказе символика огромного и всесильного бедствия сделала этот рассказ не просто эпизодом биографии Миранды, а картиной катастрофы, переживаемой всем людским сообществом. По уверению самой Портер, это произошло помимо ее авторской воли и намерений — возможно, и так, хотя таким признаниям трудно поверить. «Крохотная, горящая жгучим огнем частичка бытия» оказывается непоколебимой в своем упорном желании жить, и ей дано восторжествовать, вопреки логике обстоятельств, — но это лишь событийный план повествования. А его истинное ядро составили апокалипсические образы и картины: стремительно пустеющий город, катафалки, исчезновения людей, которые «еще вчера вечером… танцевали в это время». Почти неощутимый переход от любви к смерти. Со всей жестокостью обнажившийся трагизм человеческого существования, которое, конечно, по закону природы и стало эфемерным из-за «несчастного случая», каким предстает XX столетие.
Не должно удивлять, что эти мотивы, ставшие исключительно распространенными в литературе после 1945 года, у Портер прозвучали намного раньше. Тут сказалась доставшаяся ей по праву рождения южная традиция, для которой Откровение Иоанна Богослова неизменно служило одним из главных источников образности, но еще больше сказался накопленный Портер социальный опыт. Уже было совершено морское плавание из мексиканского порта Веракрус в Бремен осенью 1931 года, которое подскажет сюжет «Корабля дураков». И уже отстоялись впечатления берлинского сочельника в канун прихода нацистов к власти — те впечатления, без которых не был бы написан ни этот роман, ни повесть «Падающая башня» (1944), вероятно лучшая из всего, что создано Портер в этом жанре.
Время в этой повести воссоздано метафорами, к самому действию как будто не имеющими прямого отношения. Они появляются уже на вступительных страницах: изобилие свинины в описании витрин, бюргеры, выгуливающие своих перекормленных псов по улицам, где метет ледяной ветер да расхаживают прозябшие проститутки. Покачивается мертвой зыбью полуголодная, хмурая жизнь с изнурительными повседневными заботами. Уныние, смешанное с постоянным раздражением из-за неустройств, придавливает германскую столицу, как тяжелое зимнее облако, набухшее снегом. Еще никто не догадывается, как близок трагический перелом, но предощущение надвигающейся беды все время витает в воздухе.
Анонимность, обезличенность берлинского быта переданы Портер всего несколькими подробностями, но зато предельно выразительными. Вся жизнь заполняется чем-то тревожным и зловещим, хотя нам показывают одни только вязкие, скучные будни.
Метафору, вынесенную в заглавие повести, можно истолковать как символ цивилизации, опасно накренившейся и с минуты на минуту грозящей рухнуть. Однако это лишь объективный вывод, вовсе не навязываемый повествованием. В нем нет прямых подсказок, есть только дешевый сувенир, давным-давно привезенный хозяйкой пансиона из свадебного путешествия и олицетворяющий мещанское счастье. Оно теперь стало лишь далеким воспоминанием, скрашивающим тягостную обыденность, зато и оберегается эта поделка, как сокровище, — неистово, самозабвенно.