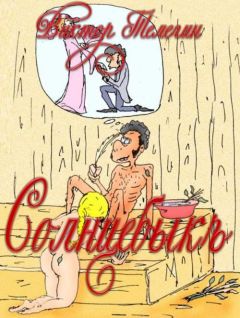антироманЧасть первая Пушкин — Хуюшкин
Гл. 1 Ключик, отворяющий ларец жизни
Он был приговорен к своему хую, приторочен к нему, как волчья голова к седлу ивановского опричника. Вся его жизнь была подчинена одному единственному, самому сильному и неискоренимому желанию: трахаться. Он хотел трахаться сегодня, хотел трахаться завтра, хотел трахаться вчера. Он с сожалением отпускал минуту, кусочек пирога под названием «время», если в эту минуту он не трахался. Его огромный хуй постоянно топорщил непомерно узкие панталоны, вроде бабских современных лосин; в свете его прозвали «елданосцем». Бабы, видавшие его в неглиже, поражались волосатости елданосца, он казался им обезьяной и трахался так же дико и ненасытно, как животное.
Его звали Александр Сергеевич Пушкин. Он был великий поэт, но еще более — великий ебарь.
Да, он умел трахаться. Анна Петровна Керн, барышня из высшего света. Он давно истекал слюной при виде ее! Его член вздрагивал в панталонах, под уздечкой собиралась молофья. Он хотел эту суку! И он ее добился. На квартире Керна, ее тупоголового мужа. Они трахались несколько часов подряд. Член Пушкина содрогался раз за разом, извергая потоки молокни то на лицо Анны Петровны, то в рот, то на ее белые мягкие сиськи, то в ее широкую жопу.
— Сука ебаная, — рычал он в исступленье, оттягивая за волосы ее голову и слюнявя пальцами ее нижние губы.
— Обезьяна, — стонала она.
Он читал стихи, что-то про «чудное мгновенье», а между тем совал ей в рот свой толстенный хуй. Усталая, Анна Петровна едва могла держать во рту эту тяжеленную штуковину, но ненасытный поэт принуждал ее. Он затрахал бы ее до смерти, если бы не воротился муж.
Не попрощавшись, обезьяна выпрыгнула в окно и огромными прыжками поскакала по заснеженной улице, на ходу напяливая панталоны.
Его хуй знавал и мужскую жопу, и жопу козы, и просто дупло старого дерева. Он не гнушался ничем, от готов был трахнуть весь мир! Иногда он представлял себя великаном, который сношает землю. О, он бы залил молофей все ее пещеры и кратеры, он оплодотворил бы ее для новой жизни! Новая жизнь! Она не давала ему покоя! Сотворить жизнь из ничего, тем самым приблизиться к богу, — вот была его мечта. Потому и поэзия — ничто, буквы, сраные буквы складываются в мелодичные стихи, равных которым нет в целом мире. Потому и жена, затраханная до умопомрачения, рождающая детей каждый год жизни с обезьяной.
Впервые он трахнулся в восемь лет. Кухарка его отца, крепостная Палаша. Она засекла его, наблюдавшим за ней в бане.
— Барин, — вскрикнула она, испугавшись. — Чо это вы?
Ее тело было подобно свежей пашне — рыхлое, готовое принять в себя семя. Глаза Палаши повело вниз. Она увидела торчащий под панталончиками хуй мальчика.
— Войди, — быстро сказала она и, схватив его за рубаху, увлекла за собой.
Мгновенно раздев Сашеньку, она припала горячим ртом к тонкому отростку с трогательными яичками, которому суждено было впоследствии прославить русскую литературу. Долго и нежно она сосала хуй мальчика, а затем улеглась на пол, раздвинув ноги. Саша увидел второй артефакт (помимо хуя), завораживающий его до конца жизни и присутствующий с ним сакрально до последнего вздоха.
— Пизды не видел? — засмеялась Палашка. — Пощупай. Это пизда.
Сашенька дрожащими руками ухватился за волосатый бугор, разделенный на две половины красноватой щелью. Он не хотел отпускать этот бугор, он был ему теперь дороже матери, отца, братьев, дороже всего на свете. Пиз — да! Он припал к пизде губами, он целовал ее, он, кажется, даже плакал.
— Ну-ка, малок, ляг-ка на меня, — позвала Палаша. — Вот так. Ну, за него-то не держись. Дай, я сама.
Подчиняясь жадным рукам кухарки, хуй Сашеньки легко проник в красноватый бугор, в щели исчезли даже его яйца.
— Во, так, — охнула Палашка. — А теперь, Сашенька, ты подвигай жопой, подвигай. Не так! Сильнее!
Сашенька задвигал тощим задом. Он не понимал, что он делает, зачем это нужно кухарке. Но вдруг Палашка издала долгий стон, а потом вскрикнула. Что-то внутри пизды начало сжимать Сашенькин хуй, точно стремясь затащить мальчика внутрь кухарки. И тогда его мозг облился горячим, там, между ног, происходило что-то настолько приятное, что мальчик закричал, не в силах сдерживать в груди все возрастающую радость.
— Ну вот, — кухарка отодвинула его, перекатилась на живот, открыв взору Сашеньки огромную, розовую от пара, жопу.
Обессиленный, Сашенька упал на залитый мыльной водой пол. Ему было легко и покойно. Он посмотрел на свой хуй. Хуй висел, как сломанная веточка. На кончике его Сашенька увидел две прозрачную капельку.
— Молофейка, — пояснила Параша, по-матерински смотрящая на него. — Из нее будут твои дети.
Сашенька дотронулся пальцем до капли, и она осталась на ногте. Где-то в ней, в этой капельке, Сашенькины дети. Где они там? Но детей не было, и Сашенька лизнул палец. Сладковато, похоже на конфету «петушок».
— Вкусно? — спросила Параша. — Я сама люблю молофейку. Ну к, Сашеньк, подь суда.
Он подошел. Кухарка снова припала к его хую, слизывая с него остатки сашенькиных детей. Сашенька смотрел на виднеющуюся жопу Параши.
— Э, да ты снова готов, — восхитилась баба. — Гусар. Давай-ка.
Она снова опрокинулась на пол, раскинув толстые ноги.
— Парашка, я хочу… туда, — робко сказал Сашенька.
— В жопу?
Кухарка рассмеялась.
— Я — то не шибко люблю в сраку, но Пантелей любит, — призналась она, поворачиваясь к Сашеньке необъятным своим тылом.
Хуй легко проник в жопу, вылез обратно. Запахло говном.
— Хоть бы посрала сперва, — проговорила Параша.
Но Сашенька не пускал ее, — ухватившись за мясо, он яростно вдалбливал хуй в черную дыру кухарки. Запах дерьма, пота, мыла, пара, все смешалось для него в единую симфонию запаха — запаха жизни, задуманной богом. И снова между ног у него стало тепло, и, обессиленный, он упал на пол, не обращая внимания на кухарку, принявшуюся слизывать с его хуя свое дерьмо и его молофью, смотрел в потолок, абсолютно счастливый. С сегодняшнего дня перед мальчиком открылась новая жизнь, и старой жизни он больше не хотел.
Собственный хуй завораживал Сашеньку. Он мог часами разглядывать его, теребить, называть ласковыми именами. Он считал его живым существом, нет, — он считал его богом. Хуй несет в себе ключик, отворяющий ларец жизни. Момент, когда в голове вдруг сверкнет мысль «Параша!» или «жопа!» или «пизда» и хуй поднимается, — это волшебство, это чудо сродни чудесам Христовым! Сашенька дрочил, и молофья выстреливала в потолок, — жизни не терпелось выбраться наружу! Сашеньке казалось, что он овладел тайной жизни, единственный из людей, и он теперь сродни Христу.
Дочка кухарки Акулька, 13 лет от роду, отдалась Сашеньке, когда тому уже стукнуло десять. Она, так же, как ее мать, легла перед Сашенькой на пол в бане, раздвинув в стороны тощие, перепачканные в грязи и гусином дерьме, ноги.
— Только скорей, — прошептала она, — а то мамка убьет.
Сашенька вставил хуй в бледную щелку, с пучком рыжеватых волос над ней, толкнул — сильно и жадно. Акулька вскрикнула, словно ее пырнули ножом, оттолкнула Сашеньку и вскочила на ноги. Из ее пизды текло что-то красное. Кровь! Сашенька испугался, как если б в сочельник увидал черта.
— Что с тобой, Акулька?
— Ничего, — сказала Акулька, подтирая промежность старым рушником. — Больно-то как! Ты не дави так сильно, ладно?
Она вновь улеглась на пол, но Сашенькин хуй беспомощно болтался и мальчик так и не смог заставить его подняться, как ни старался.
— Дай я попробую!
Акулька взяла беспомощный пестик в рот, покатала за щеками, затем полизала яйца горячим языком. Тщетно.
— Мамка дяде Ивану всегда так делает, — сообщила она. — И у него торчит, ты б видел. Не, Сашка, ты не дядя Иван.
Эти слова запали Сашеньке в душу, он стал с интересом приглядываться к конюху Ивану — какой — такой дядя Иван, какой у него хуй, как он торчит?
Украв за обедом кусок лакричного пирога, Сашенька побежал к Акульке.
— Акулька.
— Ебли хочешь? — заговорщицки шепнула девочка.
— Нет, — отмахнулся Сашенька. — Вот пирог, Акулька. Я хочу… Хочу посмотреть, как конюх ебет твою мамку.
Девочка, похоже, была разочарована, но пирог взяла.
— Приходи в людскую, как повечеряют — сказала она и побежала по двору, наступая босыми ногами в гусиное дерьмо.
Сразу после ужина Сашенька пошел в детскую, но спать не лег. Дождавшись, пока брат и сестра засопели, он выбрался из- под одеяла.