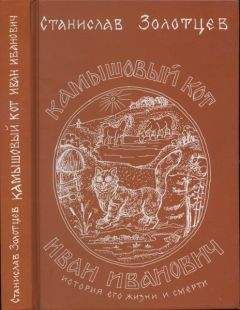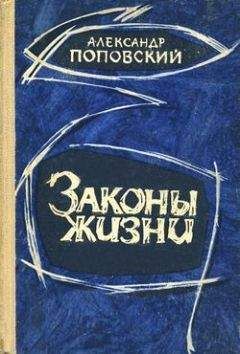Столешница столетий
Сказание о родовé
Да, так-то, ребята… Как говорится, и полвека не прошло, как мне стало ясно, что именно с этим ощущением времени я и жил всю жизнь с того часа, когда мой прародитель самыми простыми словами обозначил суть этого понятия. Жил, не осознавая, но чувствуя время, как что-то одновременно и монолитное, и упругое — словно поток сильного встречного ветра. И как же сладостно и радостно было преодолевать его в юные годы, как здорово было душой и плотью ощущать его тугое и мощное естество. А в пору зрелости — каким победным и звонким солнцем наполнялось моё естество, тараня собой, своей вошедшей в зенит жизненной силой этот монолитно-пружинный встречный поток времени!.. Нет, никогда не жил я согласно строке кумира многих наших интеллектуалов, никогда не был я «у времени в плену». То продавливал собой упругое сопротивление времени, то седлал его поток, а то и — в часы и дни особо вдохновенные — входил в него поистине, как нож в масло!.. Но пленником времени, завязшим в его монолите я никогда не был.
(Хотя бы потому, что никогда не хотел уподобляться не только что пчеле или мухе, навеки опочившим в сладко-золотой толще мёда, но даже и какой-нибудь доисторической мошке, уже миллион лет покоящейся в лучистой глуби янтаря. Велика честь, конечно — знать, что когда-либо на тебя взглянут, как на драгоценное ископаемое, или, может быть, даже станешь ты частицей украшения на груди какой-нибудь красавицы из сверхдалёких грядущих эр, велика честь — но не по мне, не по моей натуре… Не по нутру!)
…Да, сегодня-то мне особенно ощутима стала истинность слов моего деда о том, что такое время. Теперь, когда с каждым годом — да что там с годом, порою и с каждым днём становится всё труднее, а то и всё болезненнее преодолевать собой эту пружинно-вязкую толщу, вклинивать себя в упругий монолит, зовущийся временем. Всё меньше сил в душе и в теле для преодоления его встречной мощи. А оно, время, остаётся прежним. Оно не меняется, оно всё то же Время… Так-то, ребята…
И всё-таки я продолжаю своё движение в нём, движение, которое собственно и зовётся моей жизнью, и чем труднее становится мне одолевать уже, судя по всему, завершающую её часть, тем отчётливей и яснее предстаёт передо мной её начало. Самое начало. Вот примерно та ранняя пора детства, когда я услышал от кровно родного мне старика определение времени. Нет, пожалуй, даже ещё более ранняя — те дни, когда я начал понимать, что это я — да, именно я! — живу на белом свете.
И сразу же, одновременно с этим пониманием вошло в меня и другое: что я родился и живу в краю какой-то сверхъестественной, небывалой и неповторимой красоты. Родная земля, которая в моих повествованиях зовётся Талабской, с первых дней моей осознанной жизни явилась чудесным и сказочным миром. Никто мне этого не внушал, никто меня не воспитывал, что называется в духе любви к отчему краю. Этот дух сам собою возник во мне и стал самим воздухом моих юных лет — и в зрелых тоже не истаял, не источился… Я изначально ощутил, что живу среди волшебства вишнёво-яблоневых садов, рядом с таинствами широкой реки и её излук и заводей, живу в краю могучих и дремучих сосновых боров, среди бесчисленного множества больших и малых озёр, и даже таившиеся меж ними в чащах и огромные в ту пору болота не казались мне страшными — они были для меня приметами той сказки, что являлась моим начальным миром и творилась вокруг…
А на песчаных и плитяных холмах-«горушках», окружённых ржаными, гречишными и льняными полями, стояли то маленькие одноглавые церковки, а то и высокие белокаменные храмы, подобные богатырям, что по пояс ушли в землю, но вздымают над нею свои мечи — звонницы. И что с того, что по большей части проёмы звонниц зияли пустотой, и колокольных звонов не слышалось в те годы, а многие храмы стояли в запустении, — я видел, как люди, и родные мне, и вовсе незнакомые, крестятся на них: ещё не осознав, что такое Вера, я ощутил, что это — не просто древние здания, но символы Веры… А многие из этих холмов, увенчанных соборами, хранили на своих «оплечьях» остатки крепостных стен, иногда ещё и развалины башен. Но увидел я в самом раннем детстве и не порушенные временем и войнами твердыни. Сложенные предками из того же самого плитняка, они казались продолжением возвышенностей, на которых стояли, отражаясь в синеве рек, на слиянии которых они, как правило, и возникали… Когда же над такой твердыней, как над грозным исполином Кромом — над кремлём Талабска, главного города нашего края, — виднелась белая среброглавая стрела собора, то начинало вериться, что это сама земля, такая, на первый взгляд, низинная, рвётся в небеса, устремляет зов своих недр в лазоревую высь, верхами башен и куполами дорастая до небосвода!
А чуть позже, сначала со старшими, потом со сверстниками я стал бродить по стенам Талабского Крома, лазить по хитроумным оборонительным сооружениям крепости, которая пятью кольцами стен опоясывала город, входить в гулкую сумрачную тишь боярских и купеческих палат. И от тех же старших, а после из самых первых моих книг мне стало ведомо, что вот почти по этим самым плитам и уступам, почти по этой самой почве, где ступают мои ноги, всходил на «чело» твердыни Александр Невский, а вот здесь он ехал на коне со своей дружиной, а через эту прибрежную луговину белой лебедью плыла-ступала по шёлковым травам княгиня Ольга навстречу князю Игорю. И уж точно в эти крепостные ворота въезжал со свитой Иван Грозный, чтобы, встретив местного юродивого, который протягивал ему кусок окровавленного сырого мяса, содрогнуться от себя самого и не терзать город казнями… И я точно знал, что почва вот этого бастиона, где мы с мальчишками только что упали в густую и сочную мураву, помнит ботфорты и руки Петра, со товарищи, в спешке насыпавшего здесь укрепления для войны со шведами. И совершенно был я уверен в том, что каменные ступени, по которым я только что взобрался на верх самой высокой талабской башни, помнят летучую поступь кудрявого опального поэта: он, приезжая в Талабск из своего имения, любил в предзакатный час подниматься сюда, где на оплывшей башенной верхушке стояла тогда беседка. Он смотрел из неё на горизонт, где искрилась гладь озера, — быть может, она ему морской простор напоминала, незадолго до того им покинутый…
И потому кружилась моя юная голова, когда сквозь крепостную бойницу я смотрел на широкую ленту реки, по которой шли и летели пароходы и крылатые катеры, смотрел на новые здания своего города, — кружилась голова: из древней глуби веков я смотрел в новый век! И оба этих пласта времён жили рядом, и оба — жили во мне. И это стало просто физическим моим состоянием: изначально, с первых лет моей жизни былые века, седые и недавние, предстали передо мной такою же действительной реальностью, какая меня окружала наяву. Древность не мифом явилась мне, не «временем, давно прошедшим», но — явью. И даже нельзя сказать, что музейной явью. Родись я в ином краю и в иной людской среде, наверное, иначе воспринимал бы мир и время — да и вообще иную прожил бы жизнь. Но если в музее родного города, в старинных купецких палатах, чьи стены мощью соперничают с крепостными, ты видишь серебряную чашу, изготовленную твоим предком лет за четыреста с лишним до твоего рождения, и по ободу этого сосуда вязью вычеканено родовое имя твоего предка — твоя фамилия! — то уж какой тут миф, какой тут музей, какой «плюсквамперфект»? — это твоя жизнь. Явь твоя.
И когда эту же — твою — фамилию ты видишь написанной выцветшими чернилами на чудом сохранившейся в лихолетьях тетрадке, чья твёрдая обложка хранит в себе и аромат ладана, и крепкий запах дёгтя, и дух ещё чего-то таинственного, а эта тетрадка оказывается «табелью», да, женского рода, «Ученической табелью» с оценками, которые получат твой родной (не важно, что двоюродный) прадед, проучившийся два года в церковно-приход-ской школе, то… То в твоём воображении появляется не какой-то вымышленный старик (видеть его ты не мог никогда хотя бы потому, что он сгинул ещё в Первой мировой, в «империалистической» войне), схожий чем-то с другими родными тебе стариками, нет! Владелец этой «табели» — ты сам, ну… почти такой же, как ты, первоклашка с измазанным чернилами кончиком носа, ведь и в твоём годовом табеле такие же отметки, а, главное, на нём — та же фамилия. Какая уж тут старина, какой прошлый век? — я ощущал себя всеми своими предками и старшими родичами, и теми, кого знал лишь по семейным преданиям, и теми, кто окружал меня в моём детстве. Не «связь времён», нет — единое время. Весь мой начальный мир подтверждал слова моего прародителя о том, что такое Время…
А едва ли не все люди, жившие в мире моего детства, были для меня старшими, — малышня, сверстники, «мелкие» не в счёт. Что там отец и мама, бабка с дедом и кое-какие долгожители из предшествующего им поколения, — даже братья и сестры любых «степеней» родства, от родных до «десятиюродных», все были старше меня. И какое-то время мне верилось, что так будет всегда. Точней сказать — будет вечно. Верилось до того дня, когда я понял, что люди — смертны. Но это уже предмет отдельного рассказа о моём детстве. Понимаю: можно улыбнуться над полумладенческой верой в то, что одни люди сразу рождаются и живут стариками, другие — зрелыми, взрослыми, твоими родителями и их сверстниками. Однако гораздо примечательней и основательней была другая моя убеждённость, и жила она во мне гораздо дольше. А именно: мне долго верилось, что в мире или нет, или почти нет людей, которые не были бы мне родными.