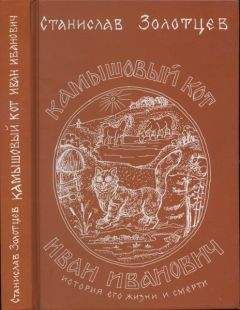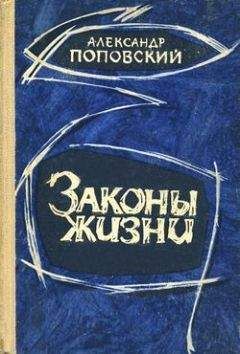Но эти «братики» наставляли меня и в умении взнуздывать лошадь (а ведь это тоже своего рода искусство: попробуйте-ка вставить удила в пасть даже и очень смирной, но кусачей савраски!), седлать её, и, что было едва ли не самым важным по тем временам, учили запрягать лошадь и управляться с нею, сидя на возу, в телеге или в санях. А вот это, скажу вам, уже настоящая наука! Со своей теорией… Конечно, эти старшие, но очень юные родственнички мои втягивали меня и во всяческие «озорничанья», без которых мальчишки во все века не обходятся. Ну, само собой, ночные набеги на окраинные городские сады (на свои-то, деревенские, нападать было и бессмысленно, и вдвойне опасно), — это при том, что у многих из нас родительские и дедовские сады имелись, но в чужих руках, известно, свой бутерброд вкуснее кажется… А ещё мальчишечье озорство, в котором мне наставниками были «братаны» и «брательники», включало в себя и донельзя страшные занятия.
…Представьте себе: сидит на песчаном дне уже осыпавшегося, оплывшего окопа мальчишка лет двенадцати-тринадцати (это один из моих «братанов») и — выкапывает из почвы мину, да, миномётный снаряд! А наверху, на бывшем бруствере сидит восьмилетний мальчик (это я) и с живым интересом спрашивает: «А не рванёт?» На что двоюродный брат меланхолично отвечает: «Может и рвануть, но вроде не должна, стабилизатор не проржавел». И приказывает мне: «Беги, собирай хворост, сейчас вот ещё одну вытащу, и костёр запалим». И, представьте себе, возгорался в том окопчике костерок, а мы сидели, спрятавшись, но изредка высовывая наши непутёвые дурные головёнки, в другом старом окопе и нетерпеливо ждали, когда же «рванёт»! Сейчас мне жутковато становится при одном лишь воспоминании об этом, но тогда, в 50-е, подобные, смертельно опасные «забавы» для мальчишек, росших в краю, где ешё недавно бушевала война, были делом почти обычным. Вроде похода в лес по грибы или рыбалки… И в них, говорю, втягивали меня именно старшие ребята из нашей родовы, те самые, которые не разрешали мне далеко заплывать во время купаний на реке и которые готовы были до крови драться, если кто-то из «не наших» мальчуганов (и, не дай Бог, если из городских!) обижал меня. А вот в своих собственных проделках подвергать меня нешуточному риску, а то и смертельной опасности — это они считали нормальным. Да, «братики» у меня были что надо…
По-настоящему же старшие, взрослые, и тем более старейшие мужчины и женщины нашей родовы — они в большинстве своём помнятся мне уже как настоящие мои воспитатели. Почти каждый из них провёл со мной если не день-два, то хотя бы несколько часов и за это время хоть малою своей заботой, хоть суровым, но теплом успевал одарить меня… Родители мои учительствовали пятнадцать лет после войны в дальних сёлах и деревнях, и до первого класса я по преимуществу жил не с ними, а в доме деда, в наших пригородных Крестках. Но нередко случалось так, что взрослые обитатели этого дома вынуждены были оставлять его на некоторое время, иногда на несколько дней, а то и больше. Особенно по зиме, когда страдная крестьянская жизнь замедляла свой ритм и давала возможность сельским людям немного перевести дух. Дед, бывало, отлучался к тому или иному родичу, но не просто погостить — он, как правило, наносил визиты своим «заединщикам в ремесле», тем, кто, как и он, либо всерьёз столярничали, «краснодеревьем» занимались, либо в садовом искусстве преуспевали. Случалось, что его, чаще всего в этом втором качестве вызывали то районные власти, то и областные и посылали его в какую-нибудь командировку, где он «делился передовым опытом», помогал людям словом и делом.
В одну из таких поездок он взял меня: тогда на него впрямь высокую миссию возложили — он вместе с ещё одним-двумя такими же умельцами должен был возродить усадебный сад в заповедном Михайловском, рядом с домом Поэта. Та поездка, правда, уже ближе к тёплому времени началась, а завершилась вообще в разгар весны, и запомнилась мне она, как ни одна другая из тех времён. Вспоминая её, я однажды и начал набрасывать на бумаге записи, которые позже выросли в мой первый роман «У подножия Синичьей горы»… Но не всегда у деда и у бабушки была возможность брать меня с собой, покидая дом не на день и не на два. А по зиме бабушка тоже свершала свои гостевые визиты, порою и дальние — к младшему сыну в Ленинград, к младшей дочке, уехавшей после техникума работать в Воронеж. (Там она, моя самая любимая младшая тётушка, которую я, кстати, всегда звал только по имени, кем-то вроде сестры её считая, доживает свой век и сегодня — единственная из всех обитателей дедовского большого дома, кто ещё остаётся на этом свете. Кроме автора этих строк, конечно…) А то навещала бабка своих сестёр и других родственниц, живших и в Талабске, и в глубинных местностях нашего края. И бывало так, что отъезды бабки и деда совпадали по времени. Вот тогда-то меня и брали «под крыло» многочисленные дедушки-бабушки и тётушки-дяди различных степеней родства.
Брали не меньше, чем надень, а иногда и на неделю. Помнится и такое: бабка и дед где-то долго-долго отсутствуют, и меня (кажется, четырёхлетнего) недели две подряд родичи передают друг другу буквально «с рук на руки». Как бы по кругу родовы: циклическое гостевание вершил тот малыш, которым когда-то был я… И не потому, что со мной было слишком хлопотно, нет, напротив, для этих взрослых, становившихся моими временными пестователями и кормителями, был я чем-то вроде «переходящего приза». Хорошо помню, как две тётушки в присутствии собиравшейся к отъезду бабушки чуть не ссорились меж собою, решая, кто из них меня заберёт к себе набольшее число дней. Мне самому, разумеется, весь этот образ жизни чрезвычайно нравился. И своим разнообразием гоже. Ведь хорошее и доброе отношение ко мне вовсе не означало, что эти старшие со мной «тетёшкались». Всяческое сюсюканье с детьми, даже с малыми, в нашей среде тех лет вообще не было принято. Одни во мне и впрямь души не чаяли, готовы были и капризам малыша потакать (хотя капризностью тот малыш, слава Богу, не отличался), другие были просто ласковы и внимательны, третьи же обращались со мной просто и строго, даже сурово, а иные чуть не «ежовые рукавицы» мне демонстрировали. Но — мне нравилось у всех!
То-то и было хорошо в тех моих гостеваниях под разными крышами ближних и дальних родичей, что я в самом начале жизни своей ощутил, понял, усвоил: все люди — разные. Даже кровно близкие друг другу, «одного корня», всё равно — разные. И должны быть такими. И в каждой семье — свои порядки, и в каждом доме — свой неписаный устав. И это разнообразие естественно и чудесно, иначе и не должно быть в жизни.
В одном доме тебя балуют, зато у них еда почти вся постная и не очень вкусная. А в другом доме родичей очень шумно, до крика, тут могут тебя и за ухо дёрнуть, и пониже спины шлёпнуть, если что не так, но это не беда. Зато у них невероятно вкусные щи, от одного запаха которых голова кружится, а молоко такое духовитое, словно оно всё разнотравье в себя вобрало… А в третьем доме тебя как бы и не очень замечают, вроде ты есть тут, а вроде и нет, но полно в его стенах всяческих интересных вещей и предметов, замысловатых диковин, знакомство с которыми раскрывает тебе глаза на громаду мира. Вот, к примеру, большая морская раковина, из зева которой, если к нему прижаться ухом, доносится шум безбрежной водной стихии, которой ты никогда ещё не видал, но с этих пор буквально заболеваешь мечтой увидеть её… А в четвёртом доме вроде бы всего понемножку, ничего особо примечательного, зато здесь тебе читают такие занимательные книжки, каких ты никогда в своём доме не видел. К слову, писать, пусть и карандашом, и всего лишь поначалу «квадратными» буквами я принялся именно под руководством одного из таких временных моих воспитателей, — то был старик, который и сам иными буквами писать не умел…
Все — разные. И разнообразие людское — одно из главных чудес мира человеческого… Не зародись во мне на самой заре моей судьбы понимание этого — худо бы мне пришлось в жизни, которая вскоре после завершения детства начала швырять меня, словно судёнышко в бурю, с одного борта на другой, из одной людской среды в совершенно иную.
Конечно, постижению сей истины способствовало и пригородное местоположение тех сёл и деревень, где проходило моё раннее детство. «Под крыло» меня брали и такие родственники, что жили в крепких и могучих сельских домах, почти что особняках по меркам тех лет, и такие, кто обитал чуть ли не в избушках на курьих ножках. Да, помнится мне одно такое жильё, не в каком-либо дальнем селении среди болот и чащоб, а в наших же Крестках, где всегда считалось просто зазорным жить в развалюхах. А избёнка, о которой говорю, мне запомнилась как «чёрная», курная, хотя таковой не являлась: половину её занимала огромная русская печь. Но дымила она так нещадно, что брёвна стен изнутри были действительно чёрными, покрытыми слоем сажи чуть не в палец. Под опекой старой бобылки, жившей в этой хижине, я провёл, слава Богу, всего один день, но отмывали меня потом примерно столько же. И до сих пор не могу понять и вспомнить, кем эта старушка нашей семье приходилась и почему меня решились ей отдать даже надень…