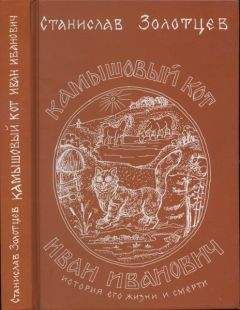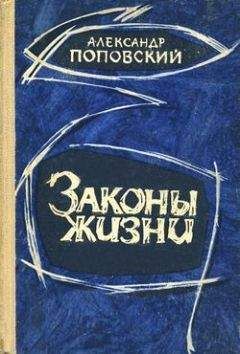Конечно, постижению сей истины способствовало и пригородное местоположение тех сёл и деревень, где проходило моё раннее детство. «Под крыло» меня брали и такие родственники, что жили в крепких и могучих сельских домах, почти что особняках по меркам тех лет, и такие, кто обитал чуть ли не в избушках на курьих ножках. Да, помнится мне одно такое жильё, не в каком-либо дальнем селении среди болот и чащоб, а в наших же Крестках, где всегда считалось просто зазорным жить в развалюхах. А избёнка, о которой говорю, мне запомнилась как «чёрная», курная, хотя таковой не являлась: половину её занимала огромная русская печь. Но дымила она так нещадно, что брёвна стен изнутри были действительно чёрными, покрытыми слоем сажи чуть не в палец. Под опекой старой бобылки, жившей в этой хижине, я провёл, слава Богу, всего один день, но отмывали меня потом примерно столько же. И до сих пор не могу понять и вспомнить, кем эта старушка нашей семье приходилась и почему меня решились ей отдать даже надень…
Но довелось мне быть «переходящим призом» и в тех семьях нашей родовы, что жили в городе. А город есть город, пусть даже и среди областных столиц далеко не самый большой. Ну, кто-то был обитателем окраинных бараков, наскоро поставленных после войны, но некоторые наши городские родичи аж свои собственные, отдельные квартиры имели, на худой конец — большие и светлые комнаты в коммуналках. А иные были собственниками кирпичных или каменных (прежде их звали «мещанскими») домов на окраинах, в слободах. Вот в одном таком «доме с мезонином» я впервые, будучи, кажется, лет четырёх отроду, если не трёх, увидал горящую электрическую лампочку. Сказать, что это зрелище меня потрясло — ничего не сказать! Ведь тогда, вплоть до конца 50-х, даже в пригородных селениях электричества ещё не было. Отчётливо помню, что хозяйку дома (как раз одну из тех сердобольных бабушек и тётушек, которые рады были и малышовым прихотям любимого ребёнка потакать) я в тот день помучил, упрашивая и заставляя её чуть не целый час нажимать на выключатель. Никак до меня не доходило, почему это от нажатия пальцем на кнопку лампочка, находившаяся так далеко и высоко, то вспыхивает, то гаснет. (Откровенно говоря, я и сегодня этого не понимаю…) А ещё мне запомнилось, что именно в таких окраинных домах меня потчевали особо вкусными пирогами, пирожками и пирожными: какой-то неповторимо сладостный аромат в них таился.
И ещё… Как будто из одной эпохи в другую я перемещался иногда в те мои дошкольные годы, гостя то в одном доме нашей родовы, то в другом: настолько далеко друг от друга отстояли те их миры, которые можно назвать духовно-нравственными. В одном доме царила (разумеется, внутри семьи, за пределами дома чаще всего никому неведомая) почти дореволюционная, старорусская патриархальность устоев и нравов, а в другом — сам воздух, казалось, был насыщен словами из «Краткого курса истории ВКП(б)», лозунгами, речами вождей и прочими «правильными суждениями сугубо советской выделки — пионерскими, комсомольскими, партийными…
Однажды случилось так, что дед с бабкой одновременно разболелись, да не просто занемогли, а какой-то нездоровый кашель стал мучить их обоих. Старшая сестра моей бабушки, дав телеграмму моим родителям, взяла меня поначалу к себе: наша деревенская фельдшерица сказала, что ребёнку опасно находиться под одной крышей с людьми, чей кашель является очень тревожным симптомом. У бабы Дупи, моей двоюродной бабушки, в её „мещанском“ частном домике прожил я всего дня два: как на грех, и она слегла, подкошенная приступом застарелого ревматизма. После чего меня на несколько дней передали под опеку родственницы её зятя, потому что она жила неподалёку в таком же слободском домике. Тут-то и началось нечто, для меня, малыша, совершенно небывалое.
Сама баба Дуня была женщиной очень религиозной, более того — глубоко воиерковлённой. И все первые послевоенные, „дохрущёвские“ годы, когда борьба против „опиума для народа“ на время притихла, она почти ежедневно ходила на службы в Дмитриевский храм, ближний к её дому, один из трёх действующих в тогдашнем Талабске. И даже иногда корила свою младшую сестру, родную бабушку мою за то, что та в церкви нечасто, по престольным праздникам да по родительским субботам бывала… Но и сама она, баба Дуня, постанывая от боли, причиняемой ей нежданным и коварным „прострелом“, со вздохом сказала о „своятке“, о родственнице её зятя, в доме которой мне надлежало пробыть некоторое время: „Ох, боюся, затуркает мать Ираклея робёнка, замучит его, прости, Господи, богомольством-то своим нещадным! Я-то внучат своих в неркву за собою не таскаю, им ведь ещё Бог весть в каки года жить придётся: может, опять храмы закрывать начнут властя… Да и матерь ихняя партейная, не допустила б робят до церквы: вот уж доченьку я взростила! Но Ираклея — та никого обочь себя без креста видеть не может, ох, нещадна она в прямоте своей богомольной!..“
В одном из своих опасений моя двоюродная бабка оказалась Кассандрой: через несколько лет „воинствующий атеизм“ возгорелся с новой силой, вновь начались гонения на Русскую Церковь. (Хотя именно в судьбах двоих из многочисленных внуков бабы Дуни её приверженность к религии проявилась всерьёз.
Правда, не сразу. Один, много лет прослуживший армейским хирургом, выйдя на пенсию, увлёкся колокольными звонами, стал мастером в этом искусстве и уже немало молодых ребят звонарями взрастил. Другой, помоложе, товарищ моей ранней юности, пройдя водовороты нескольких браков и адовы муки чёрного пьянства, не утерял всё-таки своё мастерство краснодеревщика и — своими руками несколько лет подряд восстанавливал узорочье огромного иконостаса в Свято-Троицком соборе, главном храме нашего Талабского края. Причём — не брал за это с епархии никакой платы. „Никакими молитвами мне грехов своих не замолить, — говорил он, — а за труды эти мне, может кое-что и простится“. И, кстати, искусником в резьбе по дереву начал он становиться в ПТУ — которое, кажется, тогда ещё „ремесленным“ училищем звалось, — где его наставником был мастер, которыіі, в свою очередь, некогда у моего деда этому ремеслу обучался. Так причудливо переплетались порой линии нашей родовы.)
…А вот опасения бабы Дуни насчёт того, что родственница её зятя, которую она назвала „матерью Ираклбей“, может замучить меня своим „нещадным“ богомольством, оказались, можно сказать, почти беспочвенными.
Признаться, мне и тогда не довелось понять и позже не удалось выяснить, почему эта женщина так звалась и кто она такая была. Обличье-то у неё могло впрямь и удивить, и даже напугать: вся в чёрном с головы до ног. Одно известно точно: не была она ни вдовой священника, ни тем, что называется „монахиня в миру“. Хотя и внешность, и образ жизни её вполне соответствовали такому статусу. Вспоминая её суровое лицо с прямым и тонким носом и большими, тёмно-синими, почти фиолетовыми глазами, чей взор не просто пронзал, но обжигающе прокалывал, понимаю, почему мне, малышу, оно показалось поразительно схожим с ликами женщин, глядевших на меня со множества икон в её доме. Лицу „матери Ираклеи“ действительно более подходило название „лик“ — то ли византийский, то ли древнерусский. Смугловатая, вовсе не бледная, она, казалось, вся светилась изнутри каким-то испепеляющим её саму светом… А ещё мне с первых же минут гостевания в её доме буквально вскружил голову запах, царивший в нём. То был дух чего-то и воскового, и смолистого, и сладкого, и терпкого одновременно. И я не сразу понял, что этот аромат — смесь запахов лампадного масла в божницах, что стояли перед многими иконами, с запахом свечей, которые тогда ещё не из стеарина изготовлялись, а из воска. А ещё — с запахом ладана. Этим завораживающе-сладостным духом, похоже, было пропитано всё в том деревянном старом доме: и его стены, и все вещи вплоть до пёстрых половиков, и сама его хозяйка…
Впервые я оказался в таком доме, хотя до того бывал вместе со старшими в гостях у тех, кто был истово религиозен, даже больше, чем баба Дуня. Но в доме, где хозяйкой была „мать Ираклея“, всё меня просто ошеломило: и она сама, и невероятно большое число икон — да, как видится мне сегодня, не простыми „богомазами“ созданных, а старинного письма и в красивых окладах. Думается, многие нынешние ценители иконописи задрожали бы от волнения, окажись перед их глазами те святые тёмные доски, полускрытые бронзой, медью, цветными стёклами и речным жемчугом… Но на меня, малыша, тогда сильнее всего подействовал таинственный, смолисто-восковой дух, витавший в том домике, — мне казалось, что он и меня всего пропитал и ещё долго-долго хранился в глуби моего существа. А в памяти — хранится и поныне.
…Но Ираклея стала обходиться со мной так, что ничем суровым или жёстким в душе моей не осталась. Никаким „нещадным богомольством“ она меня не мучила. Напротив, очень приветливо и по-доброму она прежде всего спросила, не хочу ли я есть. И, получив, разумеется, утвердительный ответ, накормила меня не только досыта, но и всякими вкусностями, среди коих были и домашней выпечки пирожные… Но — перед едой она опять-таки очень мягким и тёплым голосом предложила мне повторять за нею слова молитвы „Отче наш“. На меня же, ошеломлённого и суровым обликом моей новой временной воспитательницы, и всей обстановкой в её доме, и, конечно, ожидавшего от неё всяческих „нещадных“ строгостей, так подействовал этот приветливо-добрый тон её обращения со мной, что я не просто беспрекословно, а, можно сказать — как заворожённый — стал повторять за нею древние глаголы, смысл которых мне оставался ещё совершенно не ясен. Правда, об одном я смог догадаться и тогда: это я прошу, чтобы „боженька“ дал мне хлеба. И тут же Ираклея подтвердила это моё первичное понимание, простыми и доходчивыми русскими словами объяснив мне суть Молитвы Господней. И моё детское сознание было опять-таки радостно потрясено тем, что моя догадка оказалась верной.