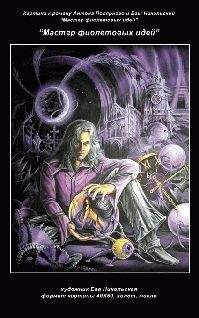Русаков Геннадий Александрович родился в 1938 году, воспитывался в Суворовском училище, учился в Литературном институте. Работал переводчиком-синхронистом в Секретариате ООН в Нью-Йорке и Женеве. Автор семи книг стихотворений. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Москве и Нью-Йорке.
Владимиру Самошкину
1
Трудно люди живут и трудами свой хлеб добывают,
стоя спят в электричках, нелепым столетьем дыша.
Утешают детей, в фиолетовых снах уплывают —
и над каждым в потёмках мерцает, как свечка, душа.
Мне хотелось бы стать и на тех и на этих похожим
и носить, как награду, высокого сходства печать,
узнавая себя в загулявшем под праздник прохожем,
пить баварское пиво и медью в кармане бренчать.
Только я не отмечен ни хваткой, ни бранной отвагой:
как со смертного ложа, ночами на дело встаю —
заслоняться от века исчерканной в клочья бумагой,
потому что я трушу в моём повседневном бою.
Потому что опять начинается медленный ветер
и спускается сверху, воздушные кручи тесня.
Потому что на белом, на этом единственном свете
за окном электрички летят и летят зеленя.
2
Красота — это цифры, их женская стать и осанка.
Мне в них поздно открылся гармонии точный расклад —
их провизорской меры исходно высокая планка,
их почти музыкальный, немногими слышимый лад.
Вот чем нам надлежит упорядочить яростность мира!
Математика лечит от хворей и низких страстей.
И квадратного корня недооценённая лира
безвозмездно врачует недуги любых областей.
Поднимаю стакан за арабскую вязь уравнений!
За могущество чисел и праведность их теорем!
Мне, увы, не по силам эвклидов и кеплеров гений...
Я за них просто выпью и чем-нибудь скупо заем.
Но зато мне близка непреложность магических формул.
(Ни одной не запомнил, но всё же почувствовал вес.)
Даже время в цифирь испокон сведено для проформы,
для товарного вида — отсюда к нему интерес.
3
Мелкозубчатый серп над продмагом меняет личины.
Кто ушёл — не вернётся, на вётлах патлатый галдёж.
Так чего ж ты талдычишь и сливы трясёшь без причины
и кого-то как будто до срока из памяти ждёшь?
Переможемся, вспомним, в творении примем участье
и достроим ко вторнику рыбий костяк бытия.
Привыкание к жизни — одно ожидание счастья,
голошение меди да смертное блюдо — кутья.
Оглянись по дороге — на что нам такое столетье?
Вон полощутся в небе разбойные стаи грачей,
исчезают за школой, колышатся нищенской сетью.
И гудение крови становится всё горячей.
А всего-то и нужно, чтоб утро крутого налива.
Чтоб капустная пойма, поливка в прозрачных усах...
...Жизнь, наверно, и вправду местами слегка несчастлива.
Но порою различье всего лишь в каких-то часах.
4
Для чего я сквалыжничал, разнагишался в строке,
бился в мыле, чужое с чужим на бегу сопрягая?
Право, мне бы по-прежнему жить от всего вдалеке:
там по дому гуляет бесстыдница, дура нагая.
Полоумная тётка — долдонит про плотность письма,
на малиновый штырь шашлыки из эпитетов нижет,
кличет Пушкина “Саней”, при этом распутна весьма,
варит в сенцах варенье и липкие пальчики лижет.
В этом розово-хриплом и жирно проперченном дне,
в этой радостной прорве вполне уголовного года
не в умении дело: уменье даётся и мне,
а поди разбери, как к утру повернётся погода.
Или где пистолет: в первом акте висел над столом,
в кобуре, а потом застрелился и вышел со сцены,
потому что несдержан — как был, так и есть дуролом.
И похоже, потомок,
притом самого Авиценны.
5
Муравьиная кучка, забитая в щель тротуара,
мокрый запах соломы, вагона блажной перепляс...
Ну а если по правде, то этого, Господи, мало
для того, чтобы время стояло водою у глаз.
Мало, Господи, мало, и бренные это приметы.
Да и сам я не нужен творенью для радостных дел —
для просторных закатов твоей бесхозяйственной сметы,
про которых я тоже когда-то, ликуя, трындел.
Мне сегодня для воли достанет шестнадцати строчек.
Остальное — довески, любовей забытый озноб,
продолжение рода, анкетный задиристый прочерк
возле пятого пункта, и детских ладошек прихлоп.
Мало, Господи, мало, ещё добавляй для довеса,
чтоб глядеть, холодея, на лысое темя бугра,
чтобы вспомнился снова блатной говорок Мелекесса...
И у края столетья залязгали в ночь буфера.
6
Люди странно менялись: придут — и борцы за свободу.
Или наше подполье: взрывали ЦК изнутри.
Я писал трое суток бессмысленно-страстную оду.
От неё сохранилось название: “Секретари”.
Всем чего-то хотелось. Осознанно — воли и корма.
Был разгул презентаций: под них накрывали столы.
Три захода за сутки — вполне допустимая норма,
хоть порой бутерброды бывали постыдно малы.
Сослуживцы из МИДа внезапно подались в евреи:
в нашей секции трое в Германию тихо ушли.
А другие евреи зажили трудней и смирее
и стояли за гречкой, как все, посредине земли.
У отечества были не самые лучшие годы.
Это стало понятно по множеству сильных людей,
промышлявших прихватом и ездивших к немцам на воды.
И туда отряжавших шалманы валютных блядей.
7
Паровозы трубят, словно мамонты в брачную пору.
Паровозы трубят от меня через тысячи лет.
Паровозы трубят, вылетая навстречу простору,
потому что для них ничего притягательней нет.
Пусть их. День отспешил и уйдёт по просохшей дороге.
Из сеней потянуло простудной струёй сквозняка.
Нам сидится, молчится. Какие тут, к ляду, итоги?..
Засинело в окошках. А всё-таки жизнь коротка.
Но уже началось ворошение заднего сада:
в палисаднике голо, а там раскачнулись кусты.
Полюби меня снова — опять, как тогда, до упада...
С блеском глаз в темноте и смещением всей высоты.
Чтобы снова кино, чтобы клёны с безумной луною,
чтобы свет проносился по листьям счастливой водой.
Чтобы хмурый подросток, тогда называвшийся мною,
с перехваченным горлом стоял под случайной звездой.
8
Снова мёдом пропахнул настой тростникового лета.
Тишина расстояний теряется в палевой мге.
Но ударит июль роковыми стволами дуплета —
и фуражку сорвёт, и приклад перекинет к ноге.
Как сырое беремя, мне руки мой век прогибает.
И утица вертится в пруду на весёлой воде.
Перепончатой лапой буровит и клювом долбает,
низко голову прячет, ныряя неведомо где.
Что мне время моё и гудение полой тростины?
Что мне тяга пространства и пряная эта вода?
Поплавки этих уток, их нежно покатые спины,
отряхнувшие Лету, чтоб снова вернуться сюда?
Ведь не в этом же суть и не в этом постыдная вера!
Что-то есть выше слова, за пряничной ложью стиха,