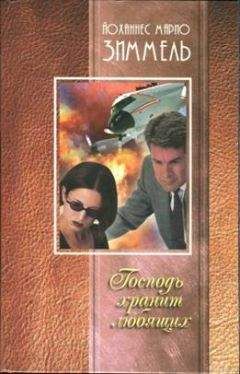Йоханнес Марио Зиммель
Господь хранит любящих
Когда мы говорим кому-то:
«Я не могу жить без тебя», —
на самом деле мы имеем в виду:
«Я не могу жить с мыслью, что ты,
возможно, страдаешь от боли,
несчастна, испытываешь нужду».
Вот и все. Когда же человек умирает,
кончается и наша ответственность.
Мы больше ничего не можем
для него сделать.
Мы можем обрести покой.
Грэм Грин. «Суть дела»Я приподнялся в постели, нащупывая в темноте выключатель настольной лампы. Это была не моя постель и не моя комната, поэтому выключателя я не нашел. На светящемся циферблате маленьких часиков было ровно пять. Телефон звонил не переставая. Сибилла его не слышала. Когда я перегнулся через нее, она дышала все так же спокойно и ровно. Мы спали в одной постели, тесно прижавшись друг к другу. Она — в моих объятиях. Моя правая рука, в тщетных поисках выключателя, наткнулась на телефонную трубку.
— Алло! — Я откашлялся. Горло перехватило, и я едва мог говорить.
— Это восемьдесят семь тринадцать сорок восемь? — Голос молодой служащей звучал свежо и весело.
— Да, — сказал я.
Теперь и Сибилла зашевелилась.
— Господин Голланд?
— Да, — снова сказал я.
— Вы просили разбудить вас, — произнес женский голос. — Сейчас ровно пять. Желаем вам доброго утра, господин Голланд!
— Спасибо.
Я аккуратно положил трубку на рычаг и снова откинулся на спину. Где-то далеко заслышался гул авиамоторов. Я лежал совсем тихо, всматриваясь во тьму, и ждал, когда гул станет ближе. Этот звук волновал меня снова и снова. Сибилла его уже давно не замечала, она слишком долго прожила в Берлине.
А для меня этот рокот, который и вправду все нарастал, становился сильнее и сильнее, был чем-то вроде постоянного напоминания, неясной угрозы, и он наполнял меня грустью. Оконные стекла слегка подрагивали, когда тяжелая четырехмоторная машина проносилась над домом.
Дни в Берлине снова подходили к концу. Мне было пора уезжать. Тянуть не было смысла. Это ничего не дает. Ни печали, ни счастья. Покоя не было.
Две стихотворные строчки всплыли в моей памяти:
…И снова за спиной я слышу торопливый бег —
Неумолимо время дальше мчится…
Кто это написал? Не помню.
Теперь рев моторов удалялся. Вот так день и ночь, по меньшей мере раза четыре в час, над домом Сибиллы пролетает самолет — перед посадкой и после взлета. Чуть южнее расположен аэропорт Темпельхоф, и самолеты летят уже или еще очень низко над крышей. Во время блокады Берлина[1], Сибилла рассказывала мне, стекла звенели каждые две минуты. Днем и ночью. В хорошую и плохую погоду. Каждые две минуты. Торопливый бег времени.
«Еще минут пятнадцать, — думал я, — и буду вставать. Нет, это слишком. Десять минут».
Шум моторов стал едва слышным, нежным, как влюбленный лепет, и стих. Тишина вернулась, но ненадолго. Новый самолет подлетал к Берлину — еще где-то высоко над облаками, в первых розоватых лучах этого зимнего дня. Он приближался, готовый промчаться над нами, содрогая воздух, сильный, неумолимый и в то же время такой шаткий и нестойкий, балансирующий между жизнью и смертью, как и люди в нем и под ним.
— Пауль?
— Да, любовь моя?
Она повернулась на бок и прикоснулась своими теплыми мягкими губами к моей груди. Она была меньше меня и очень тоненькой, у нее были длинные ноги и узкие бедра. Маленькие упругие груди. Обнаженной она выглядела совсем как мальчишка. Мужчины, которые терпеть не могли женщин, говорили о Сибилле с полным уважением: «Она, слава Богу, никак не похожа на женщину!» Но они говорили так, потому что не знали Сибиллу. Я ее знал. Я знал, как она женственна, какой сентиментальной она может быть, какой нежной и ласковой. Другие не знали этого, даже понятия не имели.
Мы спали обнаженными. Сибилла прижималась ко мне своим мальчишечьим телом. Я чувствовал себя словно выхолощенным от ее бесконечной печали, над которой я не был властен.
— Нам надо вставать, да? — прошептала она.
В квартире не было никого, кроме нас, но она шептала, как будто никто не должен был нас услышать, будто у нас с ней была тайна от ее книг, ее картин, ее узкой кровати.
Я судорожно закашлялся.
— Бедный мой, — прошептала она. — Вот так всегда. Всегда, когда ты должен от меня уходить, ты начинаешь кашлять.
— Мне очень плохо, — сказал я.
— Не говори так! — Ее руки гладили меня, но они были холодные и вялые. Мои были влажными от возбуждения и слабости.
— Что мне тогда говорить? — прошептала она в мою подмышку. — Ты, по крайней мере, улетаешь, а мне каково возвращаться в свою квартиру, сюда, в эту постель, которая еще пахнет тобой; в эту комнату, в которой все напоминает о тебе. Знаешь, я уже однажды избила подушку, за то что она не переставала пахнуть твоей головой!
Я ответил, напряженно вслушиваясь в приближение новой машины:
— Я люблю тебя, Сибилла.
— И я тебя, родной, — сказала она.
— Через десять дней я снова буду у тебя.
— Да, Пауль.
— И останусь надолго.
Сейчас настольная лампа горела, и я мог видеть Сибиллу. Она выглядела как красивая, полная страсти кошка. Раскосый разрез глаз, таких же черных, как ее волосы, которые она всегда коротко стригла. Вздернутый нос, резко очерченные ноздри, часто они нервно подергивались. Влажные красные губы, отливающие атласом. У Сибиллы был самый большой рот из всех, которые я когда-либо встречал. Это был экстраординарный рот. Однажды Сибилла заключила с одним другом пари, сможет ли она засунуть в рот очищенный калифорнийский персик. И она выиграла.
— Мы будем очень счастливы, — шептала она. Моя грудь стала мокрой от ее слез. — Я буду ждать тебя, — продолжала она, — буду слушать наши пластинки и читать книги, которые ты мне принес. Я буду ставить Рахманинова, наш фортепьянный концерт!
— Пригласи подруг.
— Да, Пауль.
Ее глаза затуманились, словно подернутые мутной пеленой, потух блеск черных ресниц. Так было всегда, если Сибилла чувствовала себя несчастной. Тогда эти редкостные занавеси печали опускались на ее глаза.
— И выходи вечерами.
— Нет, не хочу.
— И все же! Сходи в театр. Или к Роберту. — Робертом звали хозяина бара на Курфюрстендамм. Мы хорошо его знали. Мы с Сибиллой часто ходили к нему, когда я бывал в Берлине.
— Я не хочу к Роберту, — сказала она, — да ты и сам хочешь услышать, что я не хочу к нему идти.
— Да, любимая.
Я подумал: «Слишком долго висит тишина, покой слишком затянулся. Где же шум? Когда пойдет на посадку следующая машина?»
— Когда я вернусь, — между тем говорил я, — мне должны дать отпуск.
— Да, — сказала она тихо.
— И тогда у меня будут деньги, Сибилла. Мы поедем на юг, до Неаполя. Потом сядем на корабль и поплывем по Средиземному морю. В Египет! Целых четыре недели.
— Ты обещаешь?
Я положил руку между ее ног, чтобы поклясться тем, что было для меня свято, и сказал:
— Я обещаю тебе это.
— Четыре недели, — повторила она. — И ты не будешь писать никаких статей?
— Ни строчки, — сказал я. — Я буду просто любить тебя. Я буду любить тебя, мое сердце, перед завтраком и после завтрака, перед обедом и после обеда, перед ужином и после ужина.
— Пожалуйста, только не после обеда, — шепнула она, и я почувствовал, что она снова плачет.
Мои ноги заледенели. Я шевелил пальцами и ждал следующего самолета. Где он застрял? Почему не нарушает покой последних минут?
Внезапно она сказала:
— С тех пор как я встретила тебя, я снова начала молиться. Я не молилась много лет. А теперь молюсь. Я прошу Господа, чтобы Он не разлучал нас. И чтобы мы всегда были счастливы. Об этом я молю Его. — Она приподнялась на локте и подперла голову рукой. Взгляд ее страстных раскосых кошачьих глаз остановился на моих губах. — Ты не веришь в Бога?
— Нет, — сказал я.
— И никогда не верил?
— Почему же, — ответил я. — Раньше, перед войной. Во время войны перестал.
Ее большой рот полуоткрылся, и были видны прекрасные зубы. Я добавил:
— Но ты спокойно молись. Может быть, это поможет. Никогда не знаешь.
Она ответила своим хриплым голосом:
— Мы любим друг друга. Это я всегда говорю Господу. Я говорю: посмотри на нас, Господи, мы не обманываем друг друга, и один составляет другому счастье. Сохрани это, Господи! Сейчас не так много людей, которые любят. Не дай нам утратить покой, стать ненасытными, возжелать кого-то другого…
Я лежал на спине и смотрел на ее крохотные груди, на прекрасное узкое запястье, на длинные изящные пальцы. И молчал.