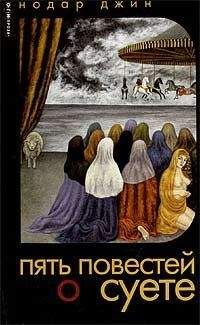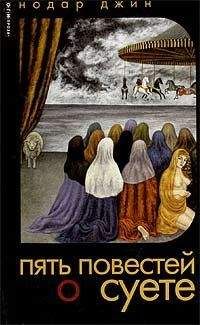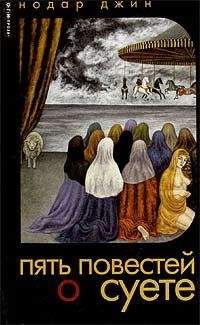Нодар Джин
Повесть о смерти и суете
1. Если бы бог не сотворил мира
Если бы бог не сотворил мира, ничего дурного в этом не было бы. Был бы он себе, этот мир, как был. Несотворённый.
Так же и с Америкой. Но в отличие от остального мира, она бы ещё осталась неоткрытой. И ничего неприемлемого в этом опять же нету, ибо уникальность этой некогда открытой земли заключается как раз в том, что она ничем не отличается от неоткрытого мира. Того, который существует со дня его сотворения.
И всё-таки именно в Америке — в отличие от остального, неоткрытого, мира — всё на свете становится очень понятно. Хорошо это или нет — дело вкуса. Мне самому, например, то нравится это, то — наоборот. Противно.
Как в оперном театре, где я был лишь дважды. В первый раз пели на незнакомом мне языке. Неизвестно о чём. Пели как раз приятно, но непонятность переживаний распевшихся на помосте людей саднила мне душу. Не позволила даже испытать вместе с героями обретённое ими — к концу действия — счастье. Я не понял в чём оно состояло. Во второй раз, однако, солисты пели на моём языке. И всё было понятно. И пели не хуже. Но они стали мне вдруг очень противны.
В оперу я, разумеется, уже никогда не пойду. В Америку же приходится пока возвращаться каждый раз после того, как уезжаю оттуда в остальной мир. Но теперь уже, после начального прибытия на эту землю, где всё сразу же стало до отвращения понятно, — теперь уже я ощущаю себя как ощутил бы себя очкарик, с которым вышла беда: внезапно — пока он шёл по главной улице — вышел срок рецепта на окуляры.
И вот теперь уже даже самые начальные образы и впечатления представляются мне размытыми в их значении.
2. Стремление понять действительность мешает её принять
Похороны Нателы Элигуловой были первые в нью-йоркской общине грузинских беженцев. Похороны состоялись на следующий день после другого памятного события — трансляции расстрела из Вашингтона. Эту передачу я смотрел вместе с раввином Залманом Ботерашвили в комнате, которую мне, как председателю общины, выделили в здании грузинской синагоги в Квинсе.
В Петхаине, древнейшем еврейском квартале Тбилиси, Залман служил старостой при ашкеназийской синагоге, и потому петхаинцы воспринимали его в качестве прогрессиста — что до эмиграции вменялось ему в порок.
Грузинские иудеи считали себя совершенно особым племенем, которое доброю волей судьбы обособилось как от восточных евреев, сефардов, так и от западных, ашкеназов. К последним они относились с чрезвычайным недоверием, обвиняя их в утрате трёх главных достоинств души — «байшоним» (стыдливости), «рахманим» (сострадания), и «гомлэ-хасодим» (щедрости). Эту порчу они приписывали малодушию, которое ашкеназы выказывали перед уродливым лицом прогресса.
В Тбилиси петхаинцы называли Залмана перебежчиком, потому что, будучи грузинским иудеем, он мыслил как ашкеназ. Посчитав, однако, что утрата душевных достоинств является в Америке необходимым условием выживания, петхаинцы решились уступить ходу времени в менее опасной форме — реабилитацией Залмана.
По той же причине они выбрали председателем и меня. Моя обязанность сводилась к тому, чтобы разгонять у них недоумения относительно Америки. Добивался я этого просто: наказывал им не удивляться странному и считать его естественным, поскольку стремление понять действительность мешает её принять.
Содержание моих бесед с земляками я записывал в тетрадь, которую запирал потом в сейф, словно хотел оградить людей от доказательств абсурдности всякого общения. Тетрадь эту выкрали в ночь после расстрела. Накануне похорон. Скорее всего, это сделал Залман по наущению местной разведки, проявлявшей интерес к тогда ещё не знакомой ей петхаинской колонии.
3. Традиция запрещает иметь больше одного языка
Незадолго до начала вашингтонской трансляции он вошёл в мою комнатку и уселся напротив меня. Как всегда, на нём была зелёная фетровая шляпа, поля которой закрывали глаза и основание носа. Неправдоподобно острый, этот нос рассекал ему губы надвое и целился в подбородок, под которым, воткнутая в широкий узел галстука, поблёскивала его неизменная булавка в форме пиратской каравеллы.
Больше всего меня раздражала, однако, его манера разговаривать. Все слова и звуки выходили изо рта Залмана какие-то круглые, — как если бы у него было сразу несколько языков. О чём бы он ни говорил, я думал прежде всего о том, что в ближайшее время следует подбить общину на обследование раввинского рта с тем, чтобы оставить в нём не больше одного языка.
Залман угадывал мои мысли и поэтому каждый раз разговор со мной начинал с малозначительных заявлений, предоставляя мне время привыкнуть к обилию языков за его зубами. В этот раз он перешёл к делу не мешкая и спросил не смогу ли я, как любитель фотографии, раздобыть портреты Монтефиоре, Ротшильда и Рокфеллера, которые он задумал развесить в прихожей.
Я напомнил прогрессисту, что традиция запрещает иметь во рту больше одного языка, а в синагоге — даже единственный портрет. Залман возразил, что петхаинцам пришло время знать своих героев в лицо. Тогда я заметил, что Рокфеллеру делать в синагоге нечего, ибо он ни разу не был евреем. Залман выкатил глаза и поклялся Иерусалимом, будто «собственноручно читал в Союзе», что Рокфеллер является «прислужником сионизма».
Его другой довод в пользу семитского происхождения этого «прислужника» заключался в том, что никто, кроме еврея, не способен обладать сразу мудростью, богатством и американским паспортом.
Я перестал спорить, но полюбопытствовал давно ли он стал прогрессистом. Выяснилось — ещё ребёнком, когда обратил внимание на то, что свинья охотно пожирает нечистоты, и соответственно предложил единоверцам разводить в их загаженном квартале как можно больше хрюшек.
Для того времени, объявил мне Залман, план был революционным, поскольку, во-первых, предлагал решительный шаг вперёд на поприще санитарной работы в провинции, а во-вторых, речь шла о кошерном квартале картлийской деревни, где Залман провёл детство и где возбранялось даже помышление о свиньях.
Из деревни он вместе с единоверцами переселился в Петхаин при обстоятельствах, которые, как он выразился, могут служить дополнительным примером его непоборимого стремления к прогрессу.
Незадолго до войны, уже юношей, Залман прослышал, что тбилисская киностудия собиралась выстроить неподалёку от его деревни декоративный посёлок, который, по сценарию, должен был сгинуть в пожаре. Залман уговорил земляков оставить киностудии под пожар свой квартал — и с деньгами, выделенными на сооружение декоративного посёлка, двинуться из захолустья в столицу.
Он собирался рассказать ещё о чём-то, но запнулся: началась трансляция из Вашингтона.
4. Всё прекрасное держится на порядке
Какой-то бруклинский старик прорвался на грузовике к самому безобразному монументу в столице и пригрозил его взорвать, если в течение суток Белый Дом не распорядится остановить производство оружия массового убийства. Белый Дом издал иное распоряжение. Полоумного старика окружили десятки лучших снайперов державы и изрешетили пулями. Позже выяснилось, что монументу опасность не грозила, ибо в грузовике взрывчатки не оказалось. Старик блефовал. Впрочем, его расстреляли бы, наверное, и в том случае, если бы властям это было известно. Ибо ничто не впечатляет граждан так сильно и ничто не служит порядку так исправно, как казнь на фоне столичной достопримечательности.
Прежде, чем застрелить старика, властям удалось установить, что он был не террористом, а пацифистом, задумавшим — сразу же после выхода на пенсию — единолично покончить с угрозой ядерной катастрофы. Иными словами, надобности брать его живьём не было.
Пока снайперы окружали старика, а агенты ФБР вели с ним переговоры по громкоговорителям, журналисты разыскали во Флориде его брата. Тоже еврея. Он, однако, был растерян и повторял, что не приложит ума — когда же вдруг у родственника разыгралось воображение. Всю жизнь бруклинец жил, дескать, на зарплату, а после выхода на пенсию не знал что выгоднее коллекционировать — зелёные бутылки или мудрые изречения. Правда, поскольку постепенно у него оставалось меньше сил и больше свободного времени, он начал верить в бога, отзываться о человечестве хуже, чем раньше, и утверждать, будто коллективный разум — это Сатана, который погубит мир в ядерной катастрофе.
Флоридского брата спросили ещё — лечился ли бруклинец у психиатров.
Нет, нас, мол, воспитывали в честной еврейской семье, где болеют только диабетом и гастритом.
Журналисты рассмеялись: А что бы он посоветовал сейчас брату, если бы мог.
Флоридец захлопал глазами и замялся: хотелось бы, чтобы брат образумился, забыл о разоружении и покорился властям. Но, добавил он со слезою в голосе, в благополучный исход ему как раз не верится, ибо бруклинцу всегда недоставало фантазии. То есть — он всегда отличался упрямством.