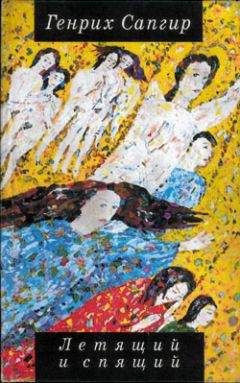Генрих Сапгир
ЛЕТЯЩИЙ И СПЯЩИЙ
…открываю наугад. Стр. 167 — и сразу оказываюсь в тесноте нечеловеческой, в толпе пассажиров двигающегося троллейбуса. Сзади напирают, не могу обернуться — не вижу кто, но сверлит. Хватаюсь за блестящую гладкую палку, чтобы не упасть. И в левую половину туловища, под мышку обеими толстыми грудями упирается мужеподобная лет пятидесяти. Так жмет, почти насилует. Некоторое время сопротивляюсь, что приводит ее в негодование — вся краснеет. Перестаю сопротивляться. И она, я чувствую, с удовольствием раздавливает меня в лепешку о стену — о рюкзак какого-то акселерата. Я почти падаю на пожилую с седыми кудерьками, та меряет меня взглядом, изо всех сил стараюсь удержаться над пропастью. Там дымится туман. Прижимаюсь спиной, ощущая чужие груди, животы — неровности и булыжники скалистой стены.
Но ее нет — и я чуть не опрокидываюсь в другую сторону с края крыши. С трудом удерживаюсь. Пугающая пустота. Далеко внизу ползают фигурки людей и бегут машины. Отклоняюсь от затягивающей бездны, держусь за низкий, слишком низкий парапет. Башмаки, уползая, скребут, царапают по красному железу. Я упаду? Я? Я уже слышу, как мое беспомощное распятое в воздухе — сейчас брызнет из всех дырок — шлепается о землю, сотрясающий, уничтожающий мир удар…
Съезжая, удерживая себя на краю, пожалуй, одним внутренним сопротивлением, пытаюсь угадать, что было на предыдущей, 166 странице. Меня преследовали? Кто я — полицейский, преступник? Участник какой детективной истории? Если это только воображение, то опасное воображение.
… по краю, по краю переползаю на 168-ю страницу.
…и вино тоже с удовольствием. Из коричневатой характерной с плечиками бутылки, я люблю бордо, льется темная густая струя. Пью из толстого стакана, отламываю кусочек камамбера. Пусть посмотрит. Жую и пью прямо в ее ненавистное красивое мраморное. Она не выдерживает, одним движением вышибает вверх, вино льется на меня, стекло разбивается, весь я в малиновых подтеках. Одновременно свинцовая ярость заливает меня. Я вскакиваю, хватаю бутылку за горлышко…
…ближе всего ко мне лысый. Остальные, как в замедленной съемке, набегают по прибрежной траве — и от кустов. Рука моя медленно опускает пустую бутылку на его розовую поросячью проплешину. (Я ведь сказал: «Не трогайте меня, я пожилой человек».) Маленький взрыв стекла. Погодите, помилосердствуйте, что же я делаю, сделал? Я же не хотел!.. Ни ссоры, ни драки в сумерках на берегу Москвы-реки… И уже сильный удар другого набежавшего сбивает меня, я падаю — при этом оскальзываюсь босой пяткой на осколке бутылочного стекла. Меня бьют ногами… «Оставьте его, убьете!» — это женский голос.
…«И убьют!» — «Стой! Стрелять буду!» — Положили прямо в лужу. Здоровенные ребята с автоматами. Грубо заталкивают меня наверх, на грузовик и сами лезут. Да не имею я ничего против них, и они против меня — тоже. Однако ударили пару раз для порядка. Ударов почти не чувствую, задубел.
…от ближайшего барака бежала женщина. «Идемте! Идемте ко мне! Пришла с работы, а у меня солдат пьяный на кровати в сапогах валяется». Патруль вошел — действительно. И бутылка недопитая на полу стоит. Вещественное доказательство. «Вставай, солдат». Встаю. Голова как чугунная. Ничего не соображаю. «Бутылку забери, разгильдяй», — старший сержант насмешливо улыбается. Они после и допили, патрули. А у меня — похмелье.
Нет, все это мне не нравится. Что там дальше — ну хотя бы на 220-й?
…вкось и назад: белый испод ее задранной под потолок ноги и мое смугло-волосатое полушарие заодно. Я — тут, а оно — там, странно видеть, тем более, что я его не чувствую. И все это ходит и двигается, как рычаги старинной машины, которая получается только тогда, когда соединятся две ее части естественным путем болта и зажимов…
…равномерное движение, все время подстегивает — желание, продлеваясь наслаждением, перекачивается в подслащенное страдание. Страдание, нарастая бесконечно, переходит в наслаждение снова, уже привычное, как движение смычка… Черная волна накатывается оттуда и уничтожает тебя. Ты уже не ты, это не с тобой, это голое животное визжит от нестерпимого! А ты, равнодушно удивляясь, наблюдаешь его изнутри, как снаружи. (Вообще я неоднократно замечал, что мы болтаемся в себе, как нечто постороннее: горошина в пузыре. Да не имеем никакого отношения — и все.) Кроме того, не забудь, ты же читаешь Воображаемую Книгу…
…дождь то начинался, то как-то выветривался. Здесь в парке трудно было отыскать. Хотя не раз я да и она посматривали на кусты, но они уже просвечивали осенней пустотой. Тогда мы, не сговариваясь, дольше искать уже было невыносимо, сели на длинную скамейку — почти на главной аллее, но в глубине, и стали прижиматься и терзать друг друга. Заслонив кожаной сумкой, я сунул руку под свитер, под тонкие трусики — сразу вошел пальцем во влажную горячую промежность… Губы ее вспухли… Это не мы, это все желание, да и зачем мы другу другу. Говорим, даже не слышим что.
…проститутка-негритянка, поднялись, оказалось — занято. Широко улыбаясь, да иначе она не умела, изобразила знаками, что нельзя, что надо подождать, что все будет хорошо. Так мы сидели в ожидании, не разговаривая, как дети, на деревянной лакированной красной парижской лестнице. Этажом ниже выглянула лохматая мексиканская голова, посмотрела на нас — оберегают… Потом все было так по-деловому, буднично, что только и запомнилось это сидение на лестнице иностранца и черной парижанки, которые смущенно поглядывали друг на друга и улыбались.
Ну, на 220 это будет всегда, как и драка на 168-й. В конце концов думаешь: «Когда же это кончится?», но здесь совершается и может совершаться только это — и кто бы ни заглянул, все будет то же хоть целую вечность. Каждая страничка — маленький ад. Перелистываю воображаемую книгу, вот — ближе к концу.
…меня отравили, внутренности мои отравили меня.
…меня наказала моя собственная вина.
…чужое равнодушное вытесняет меня изнутри.
…не сопротивляюсь. Пожалуй, моя беспомощность доставляет мне даже удовлетворение. Заводят мне за спину руки, поднимают меня, и я сижу на постели, пассивно-неподвижно, как кукла. Мне дают глотать пилюли, глотать трудно — царапает горло, а главное — мне не нравится запивать водой, она тоже необыкновенно жесткая, как наждак, поэтому льется по подбородку на грудь, на одеяло. Кладут обратно, поворачивают на живот, игла входит в мое мясо — умеренная боль и равнодушное удовольствие.
…даже умереть. Ну, остановится все, прекратится все это, бледное и досадное. А другое — яркое, сильное, что было, почти стерлось, многое не помню. Нет, еще не конец. Но умирать я, видимо, буду. И вся прошедшая жизнь стянется в один час, в один миг. Эта мысль, как игла, засела во мне. И тут я вижу, что лежу в ровном осеннем свете из окна. Нет, ничего не произошло.
…даже думать в этом свете. Ведь всю жизнь я сам был гроб для того постороннего меня, совершенно не относящегося ко всей этой жизни, состоящей из множества отдельных, не связанных между собой страниц. Просто они идут одна за другой — и читающий воспринимает это все, как единую книгу. Особенную, неповторимую… А сколько таких книг, сколько обрывается в самом начале, сколько перетасовано, чтобы получить хоть какую-нибудь оригинальность, потому что события похожи друг на друга, как сиамские близнецы! Да что может еще произойти? Только катаклизмы. Только смерть. Все это мгновенно проносится во мне и уступает радостному спокойному ожиданию.
…как подарок. Совершенно бесплатно в форточку влетел узкий желтый листок и, раскачиваясь в воздухе, небрежно опустился на одеяло перед моим носом. Запахло осенью… Нет, эта просветленная радость все же определенно грустна, ведь надо расставаться. Хотя зачем расставаться? почему расставаться? Всякий раз, взгляд — на воображаемую страницу: в комнату влетает узкий осенний листок и не спеша опускается мне на грудь. Можно ведь и жить на этой странице…
Вот он опять влетает, колеблясь, вернее, его вносит утренний сквозняк в сумрачную комнату. Там деревья освещают себя и небо светлой листвой. Если бы ему не надо было непременно ко мне на грудь, свалился бы увядший у балконной двери, закрытой и заклеенной на зиму. Но, как предначертано в его судьбе, листок проносит над письменным столом мимо книжных полок, сейчас зацепится за рамку графики (там человек падает в пустоту — в таинственный свет), не долетит. Никогда не случится. Тут напечатано: «…в форточку влетел узкий желтый листок и, раскачиваясь в воздухе, небрежно опустился на одеяло перед моим носом».
И, оставляя воображаемого себя любоваться воображаемой картиной, я перелистываю к началу. Посмотрю-ка я, что было ну хотя бы на 5-й странице.
…на краю песчаной ямы на школьном дворе возле стройки.