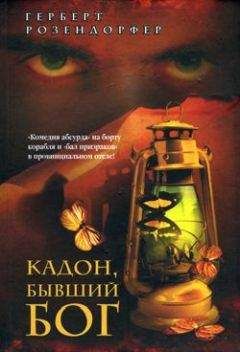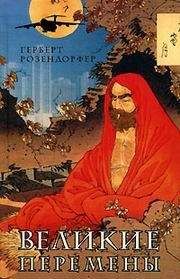Герберт Розендорфер
Чудо в «Белом отеле»
Гостем «Гранд-отеля Кародамски» я был один-единственный раз. А вот остановлюсь ли я там еще когда-нибудь – вопрос спорный. Холл был ярко освещен, но совершенно пуст. В швейцарской никого. Я поставил свой чемодан на пол и подождал несколько минут. Портье не появился. В холле было тихо, лишь где-то внизу (или наверху?) слышались приглушенные шаги и стук столовых приборов. Спустя упомянутые несколько минут я потерял терпение и нажал на кнопку звонка, вмонтированного в деревянную полированную панельку. Его звук был таким приглушенным, будто колокольчик изнутри обили бархатом. Я надавил на кнопку посильнее. Звук не стал громче, никто не появился, что меня нисколько не удивило.
Я закричал «Эй!», сначала вполголоса, потом изо всех сил. Продолжая кричать, я схватил рукой незакрепленный – как оказалось – звонок вместе с деревянной подставкой и ударил им по стойке. Никто не появился. Я отправился на поиски, взяв с собой чемодан, хотя он был очень тяжелый: кто его знает, подумал я, можно ли оставить в таком странном отеле свой багаж без присмотра.
Я шел по коридорам, пытаясь определить, откуда слышался шорох шагов и стук столовых приборов, но это мне не удалось. Звуки постоянно отдалялись, будто дразня меня; они слышались то за моей спиной, то вроде бы из подвала.
Все двери в отеле были зелеными, лишь одна красной. Я отворил ее, не постучавшись. Такой отель не заслуживает изысканных манер, подумал я и оказался перед скульптурной группой, выполненной в натуральную величину. Нет: это были восковые фигуры. Еще раз нет: живые люди. Три дамы и один господин. Большие, невидимые глазу муравьи (или жуки, а может быть, маленькие паучки?) ползали вокруг, и их шуршание и потрескивание, или как это еще назвать, и были единственными звуками, раздававшимися в этой комнате.
Но не было здесь никаких невидимых глазу муравьев и жуков, никаких птичек – это было потрескивание и шуршание черных шелковых платьев дам.
Платья потрескивали и шуршали, хотя дамы не двигались: не было ли это непроизвольное постоянное потрескивание и шуршание шелка вызвано вращением Земли?
Комната представляла собой богато украшенный зал. О вкусе, конечно, можно было бы и поспорить. Когда красная дверь захлопнулась за моей спиной, и без того еле слышный шум шагов и звяканье столовых приборов совершенно исчезли.
Обнаженные кариатиды казались единственными живыми существами в зале. Даже мопс у ног одной из дам выглядел, как чучело. (Что было очень приятно – я предпочитаю чучела собак живым собакам.) Но тут одна из дам – сидящая слева, если смотреть с моей стороны, – подняла левую руку и сказала… тут я должен вставить: все глядели на меня, если не сказать – вперились в меня – застывшими, широко открытыми глазами, причем за все это время ресницы ни разу не вздрогнули. В этих глазах отражалось недоумение (или страх?)…
…итак, левая дама сказала:
– Господин Герриет Кародамски, владелец отеля, намерен сделать вам сообщение.
– Считается, – сказал господин Кародамски и положил свою правую руку перед собой на стол, мягко, если можно так выразиться, сжав ее в кулак, – что Господь сотворил людей по Своему образу и подобию. Что, к сожалению, не позволяет сделать положительных выводов о Его собственном характере.
Я молюсь, но кому? Как я ни вглядываюсь в черную книгу, уже все глаза сломала, мне все равно не удается узнать, кому я должна молиться. Кукле с кукольным ребенком там на шкафу? Из черной книги я этого понять не могу. Правда: я не умею читать. Возможно, все дело в этом. Если бы я умела читать! Я должна выучиться чтению, но уже слишком поздно. Я замечаю, что уже слишком поздно.
Я молюсь. Я молюсь всякий раз, как только предоставляется возможность, однако повторяю всего лишь слова. «Я молюсь, я молюсь», другой молитвы я не выучила. Как только хозяева уходят из дома, я начинаю молиться. Я молюсь вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями – стирать, убираться, чистить, гладить, подметать… и когда хозяева возвращаются, естественно, ничего не убрано, везде грязь и белье не выглажено. Но как мне объяснить моим хозяевам, что я должна молиться?
Хотя ничего не помогает. Я проклята без моей на то вины. Знаете, кем был мой отец? Мы жили в хижине на болоте. Черная мокрая земля неустанно лезла в дом и заполняла собой все. Все всегда было покрыто слоем грязи, потому что мой отец жил добычей торфа. Он был самый торфянистый, самый черный из всех, прямо-таки мавр, нет, не мавр, а торфяной человек, причем никто не знал его истинного обличья. Возможно, у него и не было никакого обличья. Возможно, он бы исчез, если бы вымылся. Из осторожности он никогда не мылся. И моя мать не мылась. «Не имеет смысла», – так она говорила.
Каким же образом при таких обстоятельствах я могла бы выучиться читать, к тому же, если… я не знаю, могу ли я рассказать об этом. Я проклята без моей на то вины. В школу ходить я не имела права, потому что за мной потянулась бы болотная грязь вплоть до школьного здания. Я повторяю еще раз: я проклята без моей на то вины. Возможно, спасение находится в черной книге, но я не могу ее прочитать. Мне поздно учиться читать, как вы видите. Без моей на то вины… Но кто же захочет навечно и без всякой надежды оставаться в болоте? Моей матери пришла в голову мысль добывать золото из единственного, что росло вокруг дома – из тыкв. Не удалось. Потому что…
Рассказать об этом? Расскажу. Мне было в ту пору два года. Вот тогда-то она и продала мою душу. Ему. Вы уже все поняли. Не свою душу и не душу моего отца, нет, она продала мою душу. Она обязательно выкупит ее, всегда говорила она мне, когда я стала старше, правда, не сегодня, но скоро. И так всегда: скоро, скоро, как только удастся из тыкв добыть золото. Не удалось ни разу. Он, конечно, обманул мою мать, она скончалась, не успев выкупить мою душу. Мой отец с горя напился и утонул в болоте.
Я боюсь. Кому я должна молиться? Кто обладает властью забрать у меня мой страх? Это ужасно. Я уже заглядываю в бездну. Черное – ветер – много зубов – я бо…
Я догадываюсь, что это сон, тем не менее боюсь пробуждения. Холодно, но жарко. Сквозь жару тянутся клубы, обломки, глыбы холода. Нет, наоборот. Это глыбы, обломки, клубы, слизистые массы жары тянутся через холод. Собственно, это не жара, это что-то похожее на влажный спертый воздух инкубатора. Не будь она невидимой, она была бы красновато-коричневой.
Я должен начать сначала. Дело происходит в Брабанте. Мне всегда хотелось хотя бы раз в жизни побывать в Брабанте. Из рассказов дальних родственников я знал, что в Брабанте красиво, даже очень красиво. Кто-то из означенных родственников договорился до того, что в мире якобы нет ничего красивее Брабанта. Что многовековое богатство тамошних городов нашло свое выражение в их сверкающей золотом опрятности. Что там есть соборы из жженого кирпича, в изобилии украшенные ажурной каменной резьбой, пилястрами и гирляндами из камня. Хотя их чересчур много, но выполнены они с большим вкусом. Что там величественно поднимаются к лазурному небу башни с золотыми крышами. Что пройдя через кривые переулки, незаметно пересечешь спокойно текущие каналы. Их мосты украшены изящными статуями как христианских святых, так и языческих богов и богинь с их вольной наготой. Это и есть Брабант.
Беспечный и великолепный, покоящийся в своей собственной асимметрии главный собор города… Я забыл название этого города, один из дальних родственников сказал мне его, но неотчетливо, у него во рту оставалось всего несколько зубов… этот собор, собор без стен, но со всеми колоннами и опорами, собор, через который просвечивало солнце, был якобы столь красив, что посетители (даже искушенные историки искусств), стоя перед ним, регулярно разражались рыданиями.
Стоит ли удивляться, что с ранней юности моим самым жгучим желанием было посетить Брабант.
Господин Димульд сказал мне – мы познакомились с ним в поезде; что его зовут Димульд, он сообщил мне только тогда, когда мы выходили из вагона – мне предстояла пересадка в Брабант, ему – в Амстердам, он работал там главным портье в «Гранд-отеле Кародамски» – так вот, господин Димульд сказал мне в поезде:
– Положение дел в Брабанте существенным образом изменилось.
– Но соборы остались на прежнем месте?
– Как знать, – сказал он. – Тем более что в последнее время всплыли некие книги, в которых написаны ужасающие вещи. Времени рассказывать о них почти не осталось, – сказал он. – Вон там уже стоит мой поезд на Амстердам. Но ют тут, – он дал мне визитную карточку, на которой быстро нацарапал несколько слов на незнакомом мне языке, – адрес одного книготорговца, который продаст вам одну из таких книг, если вы покажете ему эту визитку.
Как уже говорилось, я много слышал о Брабанте, однако мне явно забыли рассказать о тамошней погоде. Покуда я там пребывал, все метеорологические проявления природы старательно забавлялись с тремя цветами: черным, сернисто-желтым и иногда вкрапливающимся между ними свинцово-серым. Вздымающиеся столь высоко вверх и столь восхваляемые всеми города с их знаменитыми соборами при таком освещении казались просто скопищем гигантских надгробий.