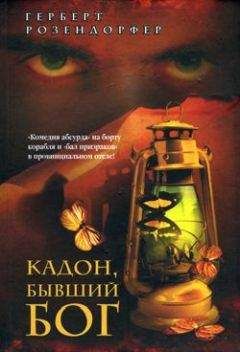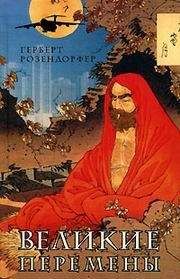– Поклянешься ли ты мне в этом, о Кародамски?
– С величайшим удовольствием. Только что же все-таки произошло в Иффельштете?
Но гермафродит исчез, не сказав больше ни слова. Несмотря на самые тщательные поиски, никакого Иффельштета ни на одной географической карте обнаружить не удалось, и что там недавно произошло, осталось загадкой.
В день свв. Перепетуи и Филицитата в тот год, когда в Майне в последний раз видели турецкого сома, хранитель проблем Шлиндвейн рассказывал своей семье за вечерним чаем:
– Только что, когда я вздремнул после обеда, мне приснился сон. Я увидел человека во фраке. В первый момент я подумал, что это Йоханнес Хеестерс.[vi] Но это оказался не он. Поверх фрака на нем была тяжелая черная накидка. Он приказал мне записать его удивительную историю. К сожалению, я ее не запомнил. «Быстрее! – все время кричал он. – Записывайте быстрее!» И я старался писать как можно быстрее. «Почему вы пишете на отдельных листочках? – кричал он. – Пишите на длинном рулоне! Вы сэкономите время, если не будете переворачивать страницы». И я, как дурак, с невероятной быстротой стал писать на рулоне, который вскоре опутал всю комнату и скрутился кольцами. Вот как оно было, – сказал Шлиндвейн. – Это был ужасный сон. Где пирог?
– Ты до этого уже съел четыре куска жареной телятины, восемь среднего размера фрикаделек, перед этим суп-лапшу, затем четырнадцать жаренных в смальце пирожков с яблоками, а салат, картофель и две форели пусть будут не в счет, – сказала фрау Меертруд Шлиндвейн. – Если так и дальше пойдет, ты лопнешь.
– Тогда хотя бы печеньица, – жалобно попросил Шлиндвейн. – Я совершенно вымотан этим сном, представьте только, какое потребовалось напряжение, чтобы писать так быстро! Да еще гусиным пером. Как ни странно, я не макал его в чернила. Каким-то чудесным образом оно писало без чернил. Вероятно, Йоханнес Хеестерс лопнул бы от ярости если бы еще и на это пришлось тратить время. Ну, в общем тот, кого я в первый момент принял за Йоханнеса Хеестерса. Но это был не он.
Шлиндвейн съел еще три порции печенья и пачку сушеного инжира.
– Дальше – больше. Я имею в виду: ужаснее. «Пишите быстрее!» – ревел он. «Я не могу быстрее!» – кричал я, обливаясь потом. Он диктовал свою в высшей степени удивительную историю, из которой я, к сожалению, не запомнил ни единого слова, просто-таки с бешеной скоростью, становясь при этом все более и более злобным, но под конец внезапно что-то щелкнуло (точнее, он сам щелкнул от ярости), и тут же он оказался голым – старая, тощая развалина с выпирающими ребрами, длинными когтями на всех четырех конечностях и жутким членом. Когтями своей левой ноги он играл на фортепиано «Добрый вечер, добрый ночи», а из его пасти выпирали клыки, которыми он намеревался прокусить маленького мальчика, внезапно появившегося в его руке.
Мой бумажный рулон превратился в дьявольскую петлю, началась сплошная фантасмагория; большой красивый букет роз, стоявший за Йоханнесом Хеестерсом, то есть за человеком, которого я первоначально принял за Йоханнеса Хеестерса – но это был не он, – вдруг превратился в груду наводящих ужас черепов. У одного из черепов были гигантские заячьи уши, другой же походил на Гитлера.
Йоханнес Хеестерс, то есть тот человек, которого я… ну, в общем, вы знаете, продолжал диктовать дальше, но уже на каком-то шаманском языке. Не спрашивайте меня, откуда я знал, что это был шаманский язык, я просто это знал и все, но ничего не понимал и не мог больше записывать то, что он диктовал, кроме того, бумага вдруг сделалась такой гладкой, что на ней невозможно было писать. В отчаянии я залез под стол…
Несколько дней спустя фрау Меертруд пересказала этот сон своему брату, эрцаббату Хильдигриму, когда он снова приехал к ней в гости.
– Это бывает, – сказал он, – когда много жрешь. Кошмар на почве обжорства.
И эрцаббат кивнул, задумчиво и отрешенно. Его сестре ничего не бросилось в глаза, потому что он часто бывал таким. Но на самом деле он размышлял о сне своего зятя. Он не признался ей, что и сам недавно видел почти такой же сон (правда, в своем сне этого человека он принял в первый момент не за Йоханнеса Хеестерса, а скорее за Марселя Райх-Раницки[vii]) и во всяком случае не в связи с обжорством, а наоборот, по контрасту – после строжайшего поста.
Не следует ли, спросил сам себя эрцаббат, ввиду подобных обстоятельств заново пересмотреть положение о пользе поста?
– Расплата, как говорится, не заставит себя ждать, и я мог бы предсказать вам заранее, как это произойдет, – сказал эрцаббат мягким голосом, но твердо.
Аббат Штурмхарт из соседнего монастыря, коллега Хильдигрима по учебе, друг и даже молочный кузен (что означает следующее: кормилица Хильдигрима была сестрой кормилицы Штурмхарта, в те времена еще звавшегося Ульф-Геро Пёшль), прибыл к Хильдигриму в совершенно подавленном состоянии и исповедался ему во всем – как в церковном, так и в переносном смысле.
– Твоя чрезмерная любовь к музыке, причем – и это я с прискорбием вынужден подчеркнуть – к музыке светской и, следовательно, профанной, сравнима только с чрезмерным аппетитом. Это почти так же плохо, как страсть к мясу. Слушать по праздникам творения композиторов-протестантов, атеистов или агностиков и, чего доброго, самому их исполнять, так же похвально, как в страстную пятницу есть паштет из гусиной печенки, о Штурмхарт!
Штурмхарт вздохнул.
Но расплата, как говорится, уже свершилась, и виолончель работы миттенвальдских мастеров приблизительно 1850 года изготовления больше не существовала.
В том, что Штурмхарт посетил свою племянницу фрау Нунхюбль, ничего предосудительного само по себе не было. То, что фрау Нунхюбль в былые времена подвизалась в Лондоне в качестве исполнительницы экзотических танцев (разумеется, под сценическим именем Флора Роттердам), аббат Штурмхарт – якобы, гм-гм! – подумал эрцаббат Хильдигрим – не знал.
Ну ладно, вполне возможно, что он действительно этого не знал, или у него стерлось из памяти, во всяком случае Флора Роттердам, отныне снова почтенная буржуазная дама по фамилии Нунхюбль, раскаялась, принесла покаяние и полностью отмежевалась от экзотических танцев.
Бабушка фрау Нунхюбль с материнской стороны, урожденная Кародамски, тоже была исполнительницей экзотических танцев. («Ведь откуда-то берутся дамы полусвета», – подумал эрцаббат Хильдигрим, но вслух ничего не сказал.) После смерти своего первого мужа, бравого каретного мастера по имени Антенгрюн, она вышла замуж за принца Гермеса Диамантопул оса («чье благородное происхождение было весьма сомнительно, – подумал эрцаббат Хильдигрим, – но очень богатого»).
Принц познакомился с танцующей вдовой каретного мастера Антенгрюна, которая тоже выступала под псевдонимом, естественно, в Париже, где же еще.
В результате неудачных биржевых спекуляций принц Диамантопулос в тридцатые годы прошлого столетия потерял все свое состояние, так что у него не осталось денег даже на пулю, чтобы пустить ее себе в лоб. Он протиснул свои очень большие ступни через прутья лестничных перил в отеле «Байеришер Хоф» в Мюнхене, высунулся наружу и висел вниз головой до тех пор, пока кровь не прилила к мозгу и с ним не случился удар.
От прежнего семейного («якобы!» – пробормотал эрцаббат Хильдигрим) состояния Диамантопулосов остались рыцарские доспехи и большая картина кисти неизвестного португальского мазилы.
Вдова Антенгрюн, урожденная Кародамски, затем принцесса Диамантопулос, находясь в том самом возрасте, когда этого, собственно говоря, делать не следовало бы, велела художнику нарисовать ее обнаженной, но деликатности ради, прикрыть веером ее чрезмерно отвислые груди и прочее. («Вероятно, – подумал эрцаббат Хильдигрим, – на этом настоял португальский маэстро. Если бы решающее слово было за старухой, ну тогда…»)
На теле у нее были только любимые украшения: серьги и ожерелье из бриллиантов размером с куриное яйцо – подарок принца.
После смерти принцессы ее наследница, та самая бывшая исполнительница экзотических танцев Нунхюбль (соответственно, Флора Роттердам), к своему величайшему прискорбию, а скорее – к ужасу, убедилась, что бриллианты (хотя и мастерски написанные) и на самом деле были куриными яйцами.
Таким образом, никаких денег на погребение не имелось, в связи с чем еще при жизни замумифицировавшееся тело пришлось засунуть в рыцарские доспехи.
– И ты в таком обществе играешь на виолончели? – фыркнул эрцаббат Хильдигрим.
Аббат Штурмхарт кивнул головой, полностью осознавая свою вину.
– И к тому же сюиту соль мажор Баха.
Тут, как и следовало ожидать, появилось непристойное облако, из которого материализовалась женщина в неописуемо узком, без рукавов и с открытыми плечами платье – это была не кто иная, как молодая Диамантопулос с локоном в стиле танго на лбу и с напомаженным ртом. Она стала жутко прищелкивать кастаньетами в такт Баховой сюите и приплясывать вокруг музицирующего Штурмхарта.