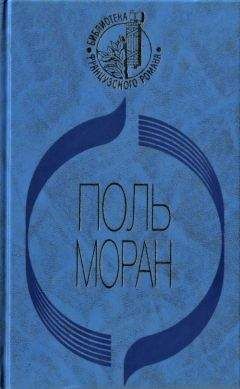I
— Пятнадцать, — считает Левис.
Согласно прогнозам утренних газет, можно было ждать тумана, а потом атлантических ливней. Опровергая прогнозы, небо как бы нехотя, но все-таки прояснилось. Парижские платаны продолжали отдавать должное осени: опавшие листья не успевали убирать.
— Пятнадцать и пятнадцать, тридцать, — продолжал считать Левис, увидев, что пышная окладистая борода появилась рядом с эспаньолкой его соседа, генерала, каждая фраза которого начиналась словами «рабски преданный своему слову…».
После возвращения из отпусков это первые похороны; у всех был еще отдохнувший вид. Ни крахмальные воротнички, ни траурные одежды не могли скрыть загорелых щек и рук. Пока служащие похоронного бюро с черными усиками переставляли гроб с похоронных дрог на катафалк, переносили в церковь один за другим венки с лентами и живые цветы — знаки соболезнования, звуки органа, подобно звукам аккордеона под руками подвыпившего плаксивого моряка, заполнили все пространство, поднимаясь к сводам и выплескиваясь на улицу мощными аккордами, рассекаемыми порывами ветра. Над лысинами вздымались блестящие, как на ложке для абсента, алебарды привратников с выемкой. Торжественной была и группа слуг усопшего — в малиновых ливреях, с черным крепом на плечах, чинно державших в руках цилиндры. Чувствовалось, что любое эмоциональное выражение горя или хотя бы отступление от ритуала может нарушить хорошее настроение неясно зачем собравшихся здесь вместе мужчин и женщин, которых, кажется, объединяло только удовольствие ощущать бодрость утреннего часа, приятный холодок во рту от зубной пасты и радостную уверенность в том, что они-то живы.
— Сорок.
То была новая спортивная игра, распространенная в Англии, под названием beaver — «бобр»; Левис, француз-англоман, привез ее во Францию. В обществе любили в нее играть. Стоило встретить или заметить бородатого человека, начинался турнир: пятнадцать, тридцать, сорок, конец партии. Выигрывал тот, кто первым увидит необходимое количество. Очки считались так же, как в теннисе. Играли на скачках в местечке Аско близ Виндзора, в соборах, в палате лордов, в омнибусах. «Бобр» настолько всех увлек, что, по наблюдению Левиса, даже на официальных приемах некоторые приглашенные отдавались этой игре, забывая о знаках почтительности, которые следовало выказывать по отношению к суверенам, и, подходя с поклоном к королю, мысленно записывали в свой актив королевскую бороду. Кое-кто из чемпионов до такой степени натренировал глаз, что достигал выигрыша с невероятной скоростью даже в толпе хорошо выбритых мужчин. Тем более как же было не играть, например, в воскресенье возле музыкальных киосков в южных департаментах, где еще царит мода на бороды цвета вербены или жевательного табака и где с ходу, бросив взор на соседние скамейки, можно набрать нужное количество очков?!
Крепкие, полные жизни наследники усопшего, члены Административного Совета и служащие Франко-Африканской корпорации имитировали скорбь на освещенных свечами лицах. Бизнесмены, неуютно чувствующие себя пред бездной вечности — в то время, когда им привычно было слышать неумолчный стрекот пишущих машинок, — скучающие светские леди и джентльмены разглядывали присутствующих, повернувшись к алтарю спиной. Церемония шла по всем правилам. Было ясно, что в час, назначенный Господом Богом, внушительный куш буржуазной собственности — сочные дивиденды — только что скользнули из сундука усопшего в сундуки наследников, скользнули бесшумно, не возбудив ни внимания налоговой службы, ни зависти подчиненных. Достаточно было, не прерывая скорбных рыданий, перевести деньги с одного счета на другой. Сегодня вспомнилось, что сто лет назад эта церковь Святой Мадлен чуть было не стала помещением для банка.
— «Бобр», я кончил! — возликовал Левис, сообразив вдруг, что рядом с ним, под крышкой гроба, продолжала расти реденькая седая бородка. Если бы, по обычаям других стран, покойник лежал в открытом гробу, никто не оспорил бы блестящего финала, к которому пришел Левис. Усопший господин Вандеманк принадлежал к тем почетным и дорогостоящим идолам, что украшают фронтон нашего финансового могущества; число таких почетных персон растет без всякой пользы для дела по мере увеличения капитала, и раз в год их выставляют пред ясные очи акционеров, которых почему-то старческая немощь не пугает, а успокаивает. Он был одним из чудаков, которые коллекционируют столовую посуду, поставлявшуюся в свое время Ост-Индской компанией, знают наизусть «Энеиду», одержимы тщеславием и страстью к наживе, хотя сами никогда не держали в руках векселей, и совершенно бесцветны на собраниях акционерного общества, похожие на жадных плаксивых детей, засыпающих только тогда, когда посасывают бутылочку с дивидендами.
Величественная фигура Христа на боковом витраже заставила Левиса вспомнить заседание Административного Совета, где он впервые — это было три года назад — увидел всемогущего Вандеманка, восседавшего на председательском месте в торце стола, покрытого зеленым сукном, в кресле, расположенном на возвышении. Над двадцатью пятью лысыми головами (только у Левиса была пышная темная шевелюра) и шкафами с позолотой тогда витали иные образы. Из-под пышного ковра с нижних этажей банка доносился шум проходящих через воронку кассового окошечка и направляемых к подземным хранилищам французских сбережений; старый банк колдовал над разными национальными блюдами, в которых бережливость, вкус к гарантированным прибылям заправлялись для приманки сверхъестественными дивидендами.
То был финал шестимесячной войны, которую вел на пути к переизбранию Комитет, чтобы помешать молодому Левису стать членом Совета при смене состава. Господин Вандеманк ненавидел этого идущего напролом, тщеславного, дурно воспитанного парня с развязными манерами эдакого артиста банковского дела.
Заслушав доклад, Левис неторопливо поднялся и подверг беспощадной критике деятельность Совета за отчетный год, особенно в том, что касалось вкладов до востребования и использования резервов; как бы между прочим он дал понять, что владеет пакетом акций, в три раза превышающим предполагаемый, и заявил, что собирается подать апелляцию и вскрыть незаконность документов, вынесенных на утверждение двух последних собраний акционеров.
Левис сел на место, чувствуя возмущение аудитории, всех этих людей, уважающих приличия и в одежде, и в образе мыслей; они общаются только с подобными себе приличными людьми, избегают прямоты и очевидности во имя хлипкого знамени, на котором начертано: «Так положено».
Вокруг зашептались:
— Пора поставить молокососов на место.
— Если вас это не убеждает, в следующий раз я приду не один, — громко произнес Левис.
— С кем же?
Он улыбнулся:
— С доказательствами.
— Франко-Африканская корпорация чиста и останется чистой как стеклышко.
— Которое вот-вот треснет.
Он был уверен, что через год будет контролировать больше половины акций; так и произошло.
— Что же вы конкретно намерены делать? — спросил господин Вандеманк, жаждавший компромисса с того самого дня, когда Левис явился к нему в качестве представителя администрации.
— Играть в открытую, вот и все, — ответил тот. — Когда мяч идет ко мне, отбить его в сторону и направить точно в ворота.
Старик смотрел на Левиса, не совсем его понимая, но раскрасневшись от возбуждения.
— Вы хотите, чтобы я…
— Либо подчинились мне, либо пошли по миру, — грубо бросил Левис. (Год назад он не решился бы так разговаривать.)
От всего этого господин Вандеманк в конце концов и умер. Прошло всего шесть месяцев, а его изнеженные руки священника перестали дрожать, вены на лбу перестали набухать, и вот он лежит здесь под первыми осенними хризантемами.
Проломив стену, которую возводят вокруг молодых и учреждения, и традиции, опровергнув многовековое правило бизнеса и вообще французского характера — «семь раз отмерь, один раз отрежь», Левис первым из своего поколения пустился в свободное плавание. И поэтому на него обрушились оскорбления, всегда сопровождающие восходящую знаменитость. Измученная Франция, раздираемая противоречивыми чувствами: заботой, как бы не погибнуть, и желанием отвести обвинение в жадности, этой вроде бы национальной черте французов, с большой неохотой поддалась неистовой активности новых нравов.
В течение года Левис утроил торговый оборот, получив большую часть контрольного пакета акций; там, где все происходило тихо (Левису еще слышится голос господина Вандеманка: «Хорошему вину не нужна этикетка»), развернулись такие дела, что о них громко заговорила вся пресса; там, где существовала только одна линия связи между улицей Скриб и Биржей, были установлены восемнадцать телефонов — специально для арбитражных сделок. К настоящему моменту Левис, по существу, определял полностью деятельность Франко-Африканской корпорации и ее филиалов — Страховой компании ЭТАС, значительно расширившейся после заключения договора о перестраховке с компанией «Ллойд», и Исследовательского центра «Фидиус» (химические удобрения, промышленный каучук, фосфаты и кислород).