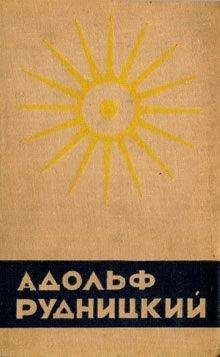Адольф Рудницкий
Нелюбимая
С разу после приезда в Казимеж на Висле Ноэми затосковала; никогда раньше у нее не бывало таких приступов тоски, и справиться с ней она никак не могла. Все, что происходило вокруг, было похоже на сон, распадающийся на отдельные части, а люди почему-то казались слепленными из кусочков. В первые дни она думала, что сердце ее разорвется, мысли ее были где-то далеко. Не откладывая, она решила вернуться в Варшаву, но хозяйка пансионата, в котором Ноэми остановилась, убедила ее несколько дней потерпеть, «потому что так обычно бывает вначале, и я даже помню, как вы себе места не находили в прошлый раз. Когда вы приехали, началось с того же, а потом вы успокоились».
Обо всем этом Ноэми написала Камилу. А когда отправила письмо — испугалась и поспешила написать другое: «Стало лучше, уже не так тоскливо; возможно, будет совсем неплохо». В письме было много нежных слов, обращенных к Камилу, а в конце она просила написать, как ему живется без нее. В ответ на первое письмо Ноэми получила короткую, сухую открытку. А потом Камил вообще замолчал.
Неделю спустя Ноэми сняла комнату у крестьянина, жившего на самой окраине городка, в домике на холме. Потом она простудилась, дней десять была прикована к постели и очень страдала от одиночества. Прислуживала ей маленькая деревенская девочка, и только одноединственное это существо и видела Ноэми за время болезни. Ее так и подмывало сообщить Камилу о своей беде. Кто же другой обязан помочь ей в трудных обстоятельствах? Она написала открытку, но тут же разорвала. Если Камил получит эту открытку, он обязательно скажет: «Никогда мне от нее не отделаться! Не успела уехать и уже вызывает! Про болезнь она придумала!» Ноэми очень боялась, что у Камила появятся такие мысли. У нее было много времени, чтобы подумать о своей жизни. И она пришла к заключению, что дела у них, видимо, очень плохи, если она боится мыслей Камила.
Ноэми и Камил жили вместе больше года. Они были ровесниками — обоим по двадцать лет. Она работала в конторе, он чему-то учился, во всяком случае под таким предлогом получал деньги от отца, провинциального чиновника, не одобрявшего истории с Ноэми. Вначале у них все шло хорошо, а потом, когда отношения разладились, Ноэми первая предложила: давай разойдемся. У нее был брат в Париже (единственный близкий родственник). Заговорив с Камилом о разрыве, она объяснила, что собирается уехать во Францию: «Я смогу еще учиться. Рысь поможет мне, ведь я не очень старая!» Ее слова потрясли Камила. Он настаивал, чтобы они немедленно поженились: «В конце концов, — уверял он, — это отличный способ, чтобы нам не задавали глупых вопросов при найме квартир». Он сам взялся уладить формальности, а отцу решил написать после того, как они поженятся, считая, что так будет лучше. Однако довольно скоро Камил бросил хлопоты о формальностях. Однажды он ушел из дому и в течение двух недель не возвращался. Убежал. Вернувшись, какое-то время держался очень мягко и кротко, но вскоре стал по-старому киснуть и злиться без повода. В мае этого года он потребовал, чтобы они на некоторое время расстались, это, безусловно, им обоим пойдет на пользу. Ноэми волей-неволей согласилась и одна поехала в Казимеж.
Проходили дни без писем. Ноэми не писала, и от Камила тоже ничего не получала. Здоровье ее постепенно восстанавливалось. Она радовалась тому, что может двигаться и ей уже не требуется на каждом шагу чужая помощь. Ноэми и в самом деле было хорошо. Безо всякой зависти она прислушивалась к долетавшему снизу шуму городка. С утра и по вечерам соседские дети пели молитвы. Вместе с березами и люпином, вместе с настурциями и табаком Ноэми слушала ребячьи молитвы, слушала так, словно сама была деревом, кустом или травинкой. Когда прошел месяц и нужно было возвращаться, она известила Камила открыткой о дне своего приезда.
Он не встретил ее на вокзале, дома его тоже не оказалось; по правде говоря, Ноэми к этому была готова. Упакованные чемоданы Камила стояли посредине комнаты — зримый знак их ссоры. Ноэми поставила рядом свой чемоданчик и села на кровать. Вскоре зазвонил телефон. Камил сухо сообщил ей, что заберет свои вещи завтра. Сказав это, он замолчал, но трубки не положил. Тогда Ноэми спросила, нельзя ли им встретиться и поговорить.
Она легко нашла его в толпе. Вид у него был неважный, полинялый — типичный городской житель в представлении людей, приехавших из деревни. Он очень похудел со времени ее отъезда. Камил не смотрел на нее, глаза их встретились только на мгновение, когда она выходила из трамвая. С этой минуты он избегал ее взгляда, смотрел куда-то вперед.
Они долго молчали. Что с ним происходило весь этот месяц? Знал ли он что-нибудь о ней? Чего он хотел? Почему ушел? Почему ушел только наполовину? Почему согласился с ней встретиться? Не глядя на него, Ноэми хотела увидеть его лицо, но вместо лица Камила в памяти всплыл образ жалких домишек, реки и деревьев.
— Завтра я заберу вещи. Мы больше не можем быть вместе, — произнес он наконец.
— Не можем? — подхватила она его слова. — Почему ты говоришь: мы не можем? Почему не скажешь: я не могу? Ведь это ты не можешь?
Он с упреком посмотрел на нее.
— Обо мне не говори.
— Значит, по-твоему, я не хочу? Может быть, потому, что я мечтала поехать вместе с тобой, а ты не пожелал? И ты обращался со мной так, что мне уже было безразлично, куда и зачем я поеду. Не потому ли?
— Оправдываешься?
— Я — оправдываюсь? Ты считаешь, что мне нужны оправдания?
— Не считаю. В первом письме ты мне писала, что твоя жизнь там складывается «неплохо». А потом вообще перестала писать.
— Ревнуешь?
— Пожалуйста, не говори мне, будто я ревнив. Отсутствие писем…
— Отсутствие писем? Значит, ты все это затеял потому, что не получал писем? Ты воображаешь, будто я вела себя недостойно, кокетничала с кем попало, искала утешения. Если бы ты захотел, если бы ты попытался представить себе ту минуту, когда я получила твое единственное письмо… Я даже читать не могла. Ты обо мне помнил — вот что было самое главное. И вдруг я подумала: «А может быть, он пишет, что решил вернуться к отцу, что между нами всё кончено». Тогда я заглянула в письмо… Ни одного ласкового слова. Почему? Почему?
Он поспешно ответил:
— Трудно сказать… у каждого свой стиль. Я человек грубый, ты, впрочем, сама знаешь…
— Ноэми, — подсказала она ему.
— Что, Ноэми?
— Скажи, Ноэми. Почему ты не называешь меня по имени? А я всегда произношу твое имя, никак не отвыкну. Нет, у тебя это не грубость, Камил, и ты вовсе не груб. Значит, ты и на самом деле, в наказание за то, что я не писала, не закидывала тебя десятками писем, опять принимаешься за старое? Ты вообразил бог знает что, а между тем я не писала совсем по другой причине. Не писала потому, что была больна.
Она рассказала ему, как все получилось.
Камил посмотрел на нее и только теперь заметил, как она осунулась и потускнела. Тонкий слой загара обманул его. А сейчас явственно проступили следы недавней болезни.
— Ты была больна? — неуверенно говорил он, словно рассчитывая через звучание слов лучше понять их смысл. — Ты была больна, это так? Значит, это верно? Какой же я болван! А я весь месяц места себе не находил. Как заведенный шагал из угла в угол, днем и ночью ждал письма. От горя у меня свело челюсть, я не мог даже улыбнуться. Но мне ведь неудобно было писать об этом. Совместная жизнь, — повторял я себе, — лишь тогда приобретает смысл, когда каждый из двоих без писем догадывается о том, что происходит с другим. Если ты не знаешь, почему я молчу, значит, и писать не стоит. Назавтра после твоего отъезда я даже собирался поехать за тобой следом. Первый вечер без тебя помог мне многое по-новому увидеть.
Он взял ее под руку. Ему отчаянно хотелось погладить ее худенькое лицо, поцеловать ее губы, глаза.
Ноэми все это понимала, видела, что он взволнован, что у него нежные глаза, доброе лицо (у него так редко бывало доброе лицо) и — он говорил не останавливаясь. Она уехала, дала ему свободу, а теперь он снова уверяет — как после первого своего возвращения, — что не хочет ни свободы, ни расставания. Должно быть, ему было плохо, но, возможно, он страдал потому, что было задето его самолюбие.
Ноэми положила руку на его плечо.
— Камил, — спокойно сказала она, — если ты чувствуешь, что может повториться то, что уже было, разреши мне уйти теперь. Прошу тебя, расстанемся по-человечески. Если мы разойдемся по-доброму, так вот, как сейчас, я это вынесу. Но если завтра или через месяц в виде наказания, или не знаю почему, ты снова возьмешься за прежнее, я больше не выдержу… Прояви твердость, но зачем быть жестоким…
— Нет, — горячо возразил он. — Когда я по телефону услышал твой голос, когда ты сказала, что хочешь со мной встретиться, я в одно мгновение ожил. Потому что перед тем я не видел ни неба, ни звезд, ни улицы. Я как бы умер, Ноэми, это не жестокость, это…