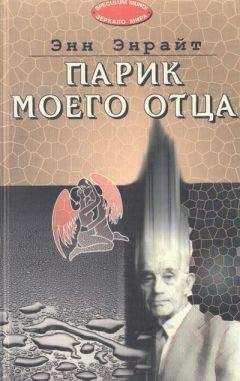Энн Энрайт
Парик моего отца
К тому моменту я нуждалась во всем, что вообще можно раздобыть. Во всем, кроме денег, секса и власти (этими тремя вещами разжиться легко, но от них одна боль). Ангел с совершенно обычным лицом позвонил в мою дверь и попросил — по праву ангелов — налить ему чаю. Едва войдя, он открылся мне — и без обиняков высказался о моей способности к деторождению. Кому она на фиг нужна? Я хотела отобрать у него чашку — но как-то не получилось.
Я его выпихивала — а он сопротивлялся с таким видом, будто просто выполняет свою работу. Я-то думала, от начала Веков Вечных он парил в тех местах, где горе и радость — едины, где знание — бородатая шутка, а Время — всего лишь окно среди окон. Я-то думала, у него одно занятие — петь. Оказывается, ошибалась. Все ангелы, каких он знал, — простые люди, которые покончили с собой оттого, что им было плохо. И теперь их дело — бродить по земле, пресекать отчаяние, отращивать себе крылья.
Очень рада слышать, сказала я, мне всегда казалось, что к самоубийцам относятся слишком сурово. Словно самоубийство — это такое зазорное развлечение, добавила я. Он сказал, что ангелом быть — тоже не баклуши бить. Много чего приходится в себе давить, много о чем сожалеть. Кстати, он будет мне очень обязан, если я перестану пялиться на то, что у него между ног — островок тусклого мерцания на его ярко светящемся теле. Он спросил, как поживает мое отчаяние. Я улыбнулась. И сказала, что нечего на меня зря время тратить.
Стивен руководил бригадой строителей в Канаде, на него были возложены кое-какие бухгалтерские дела, а также большая ответственность за материалы и транспорт. Построил мост в Риджине — и дальше все само собой покатилось. Его женитьба была — выражаясь словами самого Стивена — из разряда тех неожиданностей, что подстерегают молодых парней, но дочки стали его спасением (они его приучили читать, между прочим), а мосты — вообще самое лучшее, что есть на свете. А вдобавок — это бескрайнее ясное небо и холодные зимы, когда пальцы запросто примерзают к балке; берешь в руку гаечный ключ — и ничего, кроме ожога, не чувствуешь. В 1934 году он работал в Онтарио. Почти достроил мост — пролеты с обеих сторон навесили, оставалось перекрыть середину. Однажды ночью он прошел по ездовому полотну до места, где оно обрывалось, и сделал шаг вперед. Надо сказать, что петля, которую он предварительно накинул себе на шею, его не удушила — веревка задубела от стужи. И прикончил его, в конце концов, только холод.
Вот и все, сказал он, и ничего не осталось, кроме неутихающей боли за человечество и обостренной чувствительности к погоде. Он улыбнулся мне сияющей, как рай, улыбкой, которая расплескалась почти по всему его телу — только отметин на шее не затронула.
— Ну и как там, с тех пор как Бог умер? — спросила я со смехом. Он поглядел на меня.
— А как поживает твоя мать? — спросил он. Удар ниже пояса, подумала я, ибо сейчас она в общем-то счастлива, несмотря на. Кроме того, между всякой матерью и ее детьми есть заморочки, о которых лучше забыть, когда жизнь вроде бы входит в русло и течет себе тихо-мирно.
Оказалось, вопрос был просто дежурный — под номером два в списке Стивена. Его собственная мать как-то раз, когда мыла посуду, вдруг скрючилась от горя. Со стороны казалось, она пытается засунуть голову в чайник — потому что ей надо было прижаться к чему-то лбом, а плакать она не могла.
Байка про мать и чайник меня не удовлетворила. Мысль о матери не была последней его мыслью перед смертью. Я сказала, чтобы он не стеснялся и продолжал — и он выдал весь список.
Рыдала ли ваша мать, умер ли ваш отец, совпали ли эти два события во времени и которое из них было причиной, а которое — следствием.
Не обрекали ли вы лампочки на горение в одиночестве, задергивали ли вы шторы на ночь, вставляли ли вы хоть раз в жизни вилку в розетку просто так, чтобы ее порадовать.
Обмочились ли вы хоть раз в жизни прилюдно, и доставило ли это вам приятные ощущения.
Преследовало ли вас чувство, будто вы что-то забыли в поезде. Может, потому вы и курите — чтобы хлопать себя по карманам якобы в поисках сигарет?
Подслушивали ли ваши личные разговоры. Брызнули ли вы хоть раз в жизни кровью на зеркало. Во время полового акта — сожалели ли вы о том, что делаете.
Чувствовали ли вы отвращение при виде чего-то красивого.
Умер ли за вас Иисус Христос.
Хранили ли вы кусочки чужих тел — например, локоны.
Видели ли вы хоть раз в жизни беременную женщину, которая плыла бы на спине.
Я вся издергалась оттого, что ужасно хотела Стивена. Тем более, что он — на всякий случай — улегся на ночь со мной. Понимаете, мы оба пытались сообразить, какого еще вопроса недостает в списке, и хотели использовать время по максимуму.
А тут еще и на работе проблемы. Я думала о нем, меж тем как он лежал рядом, не приминая постели. Везет мне на таких, сказала я, холодные руки и ожог от веревки, но он что-то шептал во сне — и в итоге даже простыни раскинулись с довольным видом.
Оно конечно — его несказанной, невероятной красоты улыбка. А еще — тот факт, что он был благословлен, что в нем, казалось, пребывали все произнесенные и удержанные при себе благословения, например, благословение, в котором отказала мне моя мать, и то, в котором я отказала ей, хотя мы обе очень суеверны в подобных делах.
А еще благоговейный страх и прочий ужас-ужас-ужас — что под одеялом всегда ценно. Не говоря уже о непроизносимом, негласном и невыразимом — и все прямо у меня под боком, только руку протяни.
— Ты забываешь о целомудрии, мудрости и милосердии, — сказал он. — Эти свойства может иметь даже человек.
— Не-а, — ответила я и принялась к нему приставать с воплями: «А это, скажешь, целомудренно? Это, скажешь, мудро?» — и вообще вела себя отвратительно, как случается в таких ситуациях.
Он сказал, что нынче, насколько ему известно, нимфомания вышла из моды, но в его время она доставляла много забот родителям. Применялись различные методы, как с использованием обезболивающих, так и без, сказал он, и самым щадящим средством было повесить женщине на шею мешочек с порошковым нафталином. Так что он встал с постели и пошел искать «Антимоль».
Всю ночь он парил в шести футах над кроватью и плакал, и до списка мы так и не добрались.
К завтраку я уже знала, что хочу ему сказать. Я хотела сказать: «Делаешь вид, будто сам про это не думаешь, сукин ты сын, будто тебе не хочется согреть свои холодные руки в моем теплом паху. А насчет твоего последнего деяния перед смертью я вообще молчу».
— Я отпустил хлеб свой по водам[1], — сказал он.
Моя мать позвонила сообщить, что меня нет на работе.
— Ты не на работе, — сказала она. — У тебя все в порядке?
— Сегодня суббота, — сказала я. — А как ты?
— Замечательно, — ответила она, потому что мы обе врем одинаково. — Какие новости?
— Да в общем никаких, — ответила я (на кухне у меня ангел, тостер ломает), — а у тебя?
— Да здесь ничего нового. (Твой отец умирает, как, впрочем, и все мы).
И мы повесили трубки.
Стивен смотрел телевизор. Сидел на диване и смеялся. Когда начался прогноз погоды, он глянул на вид Земли со спутника и заявил: «Опять все наврали! Ха-ха-ха». Он рассказал мне про одного своего знакомого ангела, который покончил с собой тремя разными способами сразу. Когда смерть наступила, она была столь насильственной, что этот ангел до сих пор рассыпается в прах и, вместо того чтобы ходить, проливается дождем.
А один парень, сказал Стивен, умер, слушая, как в соседней комнате милуются любовники. Довольно приятная, на его взгляд, кончина.
— Он специализируется по звукам поцелуев и их цвету.
— Надо же, — сказала я, думая о красном.
И так мы просидели весь день, вырывая друг у друга пульт, и каждый надеялся дождаться, что другому станет невмоготу. От новостей он плакал, а иногда заливался беспричинным смехом. Я точно так же среагировала на «Домик в прериях». Стивен довел меня до ручки тем, что указал на одного актера:
— Я его знаю. Цианистый калий. Шестьдесят четвертый год. Хороший парень. Специализируется на матерях гомосексуалистов и обуви.
Потом началась программа, которую делаю я. Она называется «Рулетка Любви». Я сказала:
— Ты небось сроду ничего кошмарнее не видел?
А Стивен отозвался:
— Это о Любви, да?
И я ушла на работу — заставлять людей временно возлюбить друг друга.
В следующие выходные я повела его в город. Надеялась, в толпе попадется кто-то, кому он нужнее, и подцепит его своим горем, как крючком.
Чтобы провести Стивена через всю боль между Главпочтамтом и мостом О’Коннела, мне пришлось держать его за руку. Перед «Клериз» он встал на колени и, как ребенок, зачерпнул с мостовой пригоршню пыли. Тогда я завела его внутрь, аж в отдел электротоваров, и объяснила ему в подробностях насчет тостеров — авось подействует. Он так засиял, что я догадалась: по текучему времени и своему телу он тоскует еще сильнее, чем по телу своей жены.