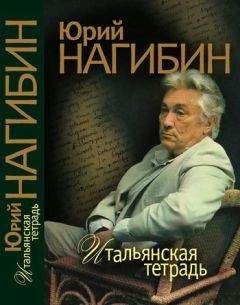БыльЛет двадцать тому назад я написал рассказ «Чужое сердце». Рассказ заинтересовал читателей, а в критике удостоился кислой усмешки: мол, сентиментальная мистика. Натолкнула меня на этот рассказ первая, считавшаяся удачной операция по пересадке сердца, сделанная профессором Бернаром. Больной прожил с чужим сердцем несколько месяцев, что доказало практическую возможность такой операции: человеческое сердце приживается в чужом организме. Ну, а почему бы ему не прижиться, если приживаются почка, глаз? Сердце такой же орган, и ничего фантастического в его трансплантации нет. Но последнего никак не принимало мое собственное старое, изношенное, пробитое инфарктом сердце. Я настолько пропитался поэтическими предрассудками, возводящими сердце в некий священный чин, что меня прямо ужас охватывал при мысли о новом торжестве науки, которое в недалеком будущем станет заурядным методом лечения.
Из этого страха и возник рассказ «Чужое сердце», обозначенный как «современная сказка». Там речь шла о первом человеке, который стал жить с чужим сердцем. Я старался показать, как это непросто.
Жизнь никогда и ни в чем не дает превзойти себя литературе, даже в том, что иным представлялось пустой выдумкой. Оказывается, и впрямь все непросто с тем сильным мускулом, что пульсирует в нашей груди, гоня кровь-жизнь по всему телу.
Вот какая история произошла с моими друзьями. Постараюсь передать ее со всевозможной точностью без беллетристических вывертов.
Много лет назад мне написала студентка-филолог из Казани Вера Н., делавшая курсовую работу по моим рассказам. Ей нужно было что-то проверить, уточнить. Я ответил. Год спустя пришло другое письмо: Вера защищает диплом на ту же тему, взятую несколько шире. На этот раз вопросов оказалось куда больше, завязалась переписка. Потом Вера сообщила, что защита прошла удачно и ее оставляют при кафедре. Темой кандидатской диссертации она избрала советский послевоенный рассказ на материалах творчества трех авторов, одним из которых опять же был я. Эта работа потребовала неоднократных приездов Веры в Москву. Мы познакомились. Вера, как говорится, вошла в наш дом. Разобрались мы в ней далеко не сразу. Есть люди, у которых все написано на лице. У Веры все, написанное на лице, никак не соответствует, точнее — противоречит ее сути. От ее крепенькой, полноватой, окатистой фигуры веяло провинциальной неспешностью, покоем, а была она человеком подвижным, решительным и быстрым. Хотя поспешала как-то медленно. Ее серые, широко распахнутые, всегда озадаченные глаза, то и дело заливающий лоб, щеки и подбородок румянец, беспричинный, неуправляемый смех хорошо работали на образ застенчивой простушки, Вера же умна, внутренне раскованна, свободна и не теряется в любых обстоятельствах. Она никогда не навязывалась, легко отказывалась от возможности встречи, мы долго принимали ее деликатность, нежелание быть в тягость за недостаток душевного тепла. И все-таки ее горячая и привязчивая душа пробилась к нам, и между нами возникла та полнота доверия, которому лишь территориальная разобщенность помешала стать тесной дружбой.
Вера работала над своей диссертацией с такой увлеченностью, словно от этого зависело быть или не быть советской новеллистике. Она сделала очень хорошую, ясную, интонационно верную работу, и нам, товарищам по немощному новеллистическому оружию, не стыдно было ее читать.
Защитить диссертацию оказалось неизмеримо труднее, нежели написать. Тут существует тщательно разработанная кем-то система, по которой казанский соискатель может защититься в своем университете лишь в том случае, если эта тема связана с татарской литературой; в Москве и Ленинграде его допустят к защите только с лингвистической работой, а литературоведению — от ворот поворот. Где же защищаться казанскому литературоведу, никто толком не знал. Говорили смутно о Средней Азии, Белоруссии, благодатных землях за хребтом Кавказа. Я еще упрощаю, на самом деле тут было куда больше бреда, заплетающего мозги в косу.
Вера не сдавалась, она объездила полстраны, прежде чем рыцарственные грузины допустили ее защищаться в Тбилиси.
Вера выездила себе в этих странствиях нечто большее, чем диссертацию. В Куйбышеве она познакомилась с итальянским парнем, станочником с «Фиата», работавшим в Тольятти. Знакомство продолжалось в Казани, Москве и других городах, куда спешил за летучей диссертанткой Джанни, и перешло во взаимную любовь. Джанни сделал предложение по всей форме, для чего ему пришлось проникнуть в город, неохотно открывающий свои ворота чужеземцам, но перед любовью падают все крепости, и получил согласие Вериной матери. Прекрасно понимая, что между сговором (подачей бумаг в загс) и обручением пройдет немало времени, любящая пара не стала подчинять страсть букве закона — в торжественный день защиты диссертации Вера почувствовала родовые схватки. Гостеприимная Грузия приняла не только Верину работу, но и ребенка, прекрасного мальчишку итало-советской кооппродукции.
Джанни, уже завершивший к тому времени свою работу на Волге, немедленно примчался из Италии, произошло обручение, и дитя, увидевшее свет под добрым солнцем Грузии, обрело законных родителей.
Жизнь широко улыбнулась Вере. Улыбка, правда, скривилась в гримасу, когда ВАК отказался утвердить диссертацию, не засчитав ей экзамен по иностранному языку. Вера сдавала польский. Видимо, в ВАКе мысль замерла на третьем разделе Польши, когда значительная часть страны стала Варшавским наместничеством под скипетром русского царя. Но способная к языкам Вера уже настолько освоила итальянский, что без труда пересдала экзамен и была утверждена кандидатом литературоведения. Два года назад мы встретились с Верой в Турине и узнали: молодая чета немало успела. На деньги, заработанные Джанни в Советском Союзе, они приобрели четырехкомнатную квартиру, обставили ее, купили вместительный «фиат» — двухдверный, чтобы дети не вываливались из машины во время движения. К этому времени у их первенца появилась сестричка. Джанни работал на старом месте, а Вера преподавала русский язык на каких-то курсах, в помощь себе она вызвала маму из труднодоступного городка, затерявшегося меж мордвой и чудью. Мама не нарадуется внукам, но нет-нет да и всплакнет по своим ульям, доверенным на время отсутствия выпивохе-соседу. Все это Вера выложила одним духом, краснея и посмеиваясь, когда мы шли по перрону туринского вокзала, куда я прибыл из Милана. «Значит, все хорошо?» — бодро спросил я. Радость, будто заблудившаяся на ее лице с мгновения, что мы встретились, приняла в себя брызнувшие из глаз слезы. «Джанни очень болен. Очень, очень!.. Вы сами увидите». — «Что с ним?» — «Сердце. Ну хватит об этом».
Джанни, который, как обычно в Италии, не мог припарковаться, сидел за рулем своего «фиата» с невыключенным мотором, отбиваясь от многочисленных стражей порядка, гнавших его прочь с забитой в два ряда привокзальной стоянки. «Скорее!» — сказал Джанни, распахнув дверцу. Мы нырнули в нагретое нутро машины, и Джанни рванул прочь, сумев уйти от крупного штрафа.
Я с удивлением и тревогой смотрел на мужа Веры. До этого мы не встречались, но я хорошо помнил его по многочисленным фотографиям, которые Вера в утро их любви с горделивой радостью рассыпала веером по столу, словно карты для гадания. Красивый, смуглый парень, с сильным челюстным и набровным лицом, с добрым, надежным взглядом спокойных больших глаз. Я бы никогда не узнал его, и, конечно, естественным образом нельзя так неправдоподобно измениться молодому человеку, ведущему здоровый образ жизни и занимающемуся физическим трудом. Он стал необъятен: громадный живот, голова котлом, черты лица заплыли, деформировались, челюсти и подбородок чудовищно нагрузли и упали на грудь, пальцы, державшие баранку руля, — как бледные сардельки. Обмениваясь с ним рукопожатием, я будто погрузил ладонь в подушку.
«Что же это такое?» — думал я, не умея вывести новую внешность Джанни из его болезни. Потом, когда мы объездили город, осмотрели загородный королевский дворец, глянули на знаменитую туринскую плащаницу в кафедральном соборе, сохранившую отпечаток мертвого лица Иисуса, и белые пелены со следами его тела, постояли в музее у графического портрета земного бога-Леонардо, убедились по бесчисленным и крайне агрессивным памятникам воителям всех времен: от Юлия Цезаря до неизвестных солдат последних битв, что Турин самый воинственный город в мире, я несколько привык к Джанни и даже принялся себя уговаривать, что он просто любитель сладко поесть, попить, поспать — добродушный байбак с наследственной склонностью к полноте, не желающий противопоставить пагубным наклонностям строгий режим, утреннюю гимнастику, бег трусцой и все прочие благоглупости, какими думает спастись загнавшее себя человечество. Тем более что в повадке Джанни, в легкой готовности осмотреть все достопримечательности города, в ловкости, с какой он вел машину по запруженным улицам, в живой заинтересованности его пояснений не было ничего натужного, через силу, — радостно и охотно делился он своим богатством. Джанни не только знал город, его историю и географию, он был сведущ в архитектуре, живописи, скульптуре и любил все это. Жители Аппенинского сапога весьма самокритичны, не раз слышал я: отними у итальянцев футбол, кладбище и больницу, им нечего будет делать с собой. Футбол и кладбище не требуют пояснений, что же касается больницы, то навещать своих страждущих — любимый ритуал итальянского бытия. В больницу приходят толпой с вином и сигаретами; в табачном дыме обсуждают падение «Ювентуса», очередные промахи правительства и последние выдающиеся похороны. В этом смысле Джанни был нетипичным итальянцем.