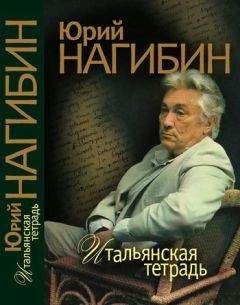— Вашему сердцу, — улыбнулась она.
Старик вышел на балкон, Вера принялась убирать со стола.
— Можно мне приложить ухо к вашей груди? — спросила мать Джорджи.
— Пожалуйста… — чуть растерянно согласился Джанни.
Она подсела к нему и стала деловито расстегивать на нем рубашку. Джанни стыдился своей волосатой груди, к тому же было щекотно, он ежился.
— Ну, ну, — сказала женщина, — будьте хорошим мальчиком.
Она приложила маленькое холодное ухо к тому месту, где особенно четок стук сердца, и замерла. «Вот зачем они ехали, — подумал Джанни. — Хорошо бы обошлось без перебоев». Он поймал себя на странном чувстве, будто отвечает перед стариками за работу своего сердца. Он нашел глазами Веру и улыбнулся ей. Она не ответила ему.
Женщина отняла голову от его груди.
— Бьется, — сказала она. — И во мне оно так же билось, когда я вынашивала Джорджи.
А прощаясь, она сказала:
— Берегите ваше сердце.
— Наше, — поправил Джанни….
— …Вот так мы и живем, — закончила свой рассказ Вера. — Обмениваемся открытками, иногда перезваниваемся. Сейчас сговариваемся о встрече. Старики зовут нас к себе, но ведь это хлопотно — с детьми. Наверное, они приедут к нам на два-три дня.
— А это не утомительно?
— Нет, кажется вполне естественным. Ведь в Джанни действительно продолжает жить частица их сына.
— Мистика какая-то, — сказал я, забыв, что этим словом припечатали некогда мой старый рассказ…
Так в чем все-таки дело? Почему сказка обернулась былью? Что это — торжество поэзии, заморочившей нам голову и превратившей кусок мышечной ткани во вместилище любви, нежности, страдания, жалости, гнева и даже высшей памяти: «О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной»? Этот мускул диктует нам самые важные решения и поступки, в том числе жертвенные, которым противится здоровый инстинкт самосохранения, равно легко может толкнуть на доброе и злое, героическое и преступное, словом, сделать из человека великана или карлика. И потом, как маятник в часах, он находится в постоянном движении внутри тела, вечный двигатель в пределах человеческого века.
Поэтическая «тягостная бредь»? Но почему же мы все в нее верим? Что мы вообще знаем о человеке? Мы достигли выдающегося успеха лишь в том, что служит уничтожению жизни. Прав американский писатель: что бы ни изобретали ученые, в конечном счете они изобретают оружие. Мы живем под тропиком рака, но разве мы вкладываем в борьбу с этим кошмаром то неистовство, то упорство и те средства, которыми раскрепостили губительную энергию атома? Всего полшага отделяют нас от создания лучей смерти, но и шага не сделано на пути ликвидации «чумы двадцатого века». Да разве знаем мы человеческий организм, как должны были бы знать, и что вообще знаем мы о себе, чудовища в пиджаках, неустанно работающие на самоистребление? «Есть многое на свете, друг Горацио, чего не знают наши мудрецы», — сказал толстый одышливый, потливый молодой датчанин, не разгаданный ни современниками, ни последующими поколениями. «Это трюизм, принц», — хотел ответить ему виттенбергский корпорант, но не знал этого слова, а пока подыскивал другое, время скользнуло мимо.