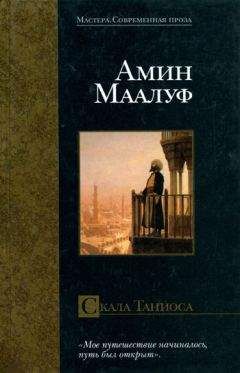Памяти человека с перебитыми крыльями
Вот народ, ради которого воздвиглись эти Аппалачи и Ливаны мечты!..
Чьи добрые руки, какие прекрасные мгновенья вернут мне этот край, откуда приходят и сны мои, и самые малые мои движения?
Артюр Рембо. Озарения.[1]
В деревне, где я появился на свет, скалы имеют имена. Есть там и Корабль, и Медвежья Морда, есть Засадная скала, Стена и Близняшки, именуемые еще Упырихиными Сиськами. И, само собой, не может не быть Дозорного камня: именно там выставляли стражу, когда воины преследовали непокорных, никакое иное место не пользуется большим почетом и не обросло таким длинным шлейфом преданий. При всем том, если и случается грезить о краях, где протекло невозвратное детство, мой взор притягивают не эти скалы, а величавый утес, похожий на трон, малость порушенный и словно бы продавленный великанским седалищем, с высокой прямой спинкой и боковыми отрогами, смахивающими на подлокотники, — только этот утес, насколько мне помнится, назван человечьим именем: Скала Таниоса.
Годы и годы я только разглядывал каменный престол, не осмеливаясь туда забраться. И не из страха либо осторожности: скалы в деревне были нашим убежищем и любимым местом забав, а я еще в раннем детстве заимел привычку поддразнивать более старших, решаясь на самые безрассудные вылазки. Хотя единственным нашим снаряжением оставались босые ноги и голые руки, мы так умели приклеиваться всей кожей к телу камня, что ни один отвесный уступ не мог нам противостоять.
Так вот, удерживало меня вовсе не опасение разбиться. Но суеверие и клятвенное обещание. Дед вытребовал его у меня перед самой кончиной. «Все скалы — твои, но только не эта!» — так он сказал. Да и остальные подростки, подобно мне, держались от той скалы подальше, обуянные таким же суеверным страхом. Они тоже кому-то давали клятву, приложив пальцы к пушку на верхней губе. И в ответ на все их недоуменные вопрошания звучало одно и то же: «Его прозывали Таниос-кишк. Он пришел и уселся на эту скалу. С тех пор о нем ни слуху ни духу».
При мне об этом персонаже, герое многочисленных местных побасенок, упоминали довольно часто, но особенно меня тогда заинтриговало само его прозвище. Что до Таниоса, тут мне все было ясно: имя, как я разумел, происходило из того же корня, что Антоний и тамошние его производные: Антун, Антониос, Мтаниос, Таннос и Таннус. Но что за смехотворная добавка «кишк»? На сей счет мой дедушка так и не соизволил меня просветить. Только обронил нечто, дозволительное, по его мнению, для детского слуха: «Таниос — сын Ламии. А о ней ты скорее всего слыхал. Все это так давно было… Даже я тогда еще не родился, да и отец мой тоже. В те времена египетский паша воевал с турецким падишахом, и предки наши очень настрадались, особенно после убийства патриарха. Его подстрелили прямо на подступах к нашей деревне, стреляли из ружья английского консула…» Так отвечал мой дед, когда не желал сказать больше. Просто разбрасывал обрывки фраз, словно показывал тропки: одну, потом другую, третью… не отпуская прогуляться ни по одной. Лишь много позже я смог узнать, что же там на самом деле приключилось. Понадобились годы, чтобы связать все воедино.
Однако же я сразу принялся распутывать нити этой истории, потянув за правильный кончик: имя Ламии мне было известно. Оно два века шло к нам и добралось невредимо благодаря известной всем поговорке: «Эх, Ламиа, Ламиа, разве скроешь такую красу?»
Еще и поныне стоит молодым людям, толпящимся на сельской площади, приметить закутанную в шаль женщину, как среди них обязательно найдется кто-либо, кто прошепчет: «Эх, Ламиа, Ламиа…» Обыкновенно это звучит неприкрашенной лестью, но подчас может скрывать едкую усмешку.
Большинство теперешних юнцов не больно-то чего знают о Ламии, а еще менее — о той человеческой драме, память о коей несет в себе поговорка. Они довольствуются повторением услышанного из уст отцов или дедов, порой вслед за ними повторяя и характерный взмах рукой, указующей на ныне обезлюдевшую верхнюю часть деревни, где доселе темнеют еще не потерявшие величия руины замка.
Жест этот долго побуждал мое воображение наделять прелестную Ламию рангом чуть ли не высокородной госпожи, оградившей свою красоту от досужих взглядов поселян высокими стенами. Бедная Ламиа, доведись мне глянуть хоть разок, как она суетится в замковой кухне или как ее босые ступни семенят по каменным плитам дворцовых прихожих, увидеть ее в накидке и с кувшином в руке, я бы не смог принять ее за владелицу замка.
Еще с меньшим основанием можно было бы счесть ее служанкой. Сегодня мне известно о ней не так уж мало. Прежде всего благодаря старикам и старухам из нашего селения, которых я непрестанно теребил расспросами. Не сейчас, конечно, а лет двадцать назад, теперь-то они все поумирали. За исключением одного. Его зовут Джебраил, он двоюродный брат моего деда, сейчас ему девяносто шесть. Его имя я называю не только из-за того, что ему посчастливилось пережить всех прочих, но прежде всего потому, что страстная, как у многих школьных учителей, любовь к истории родных мест делает его свидетельство наиценнейшим, по правде говоря, просто неоценимым. Я часами пожирал взглядом широченные ноздри и толстенные губы на его сухоньком сморщенном личике — возраст и лысина делают такие физиономии еще выразительнее. В последние несколько лет мы с ним уже не видались, но меня уверяют, что ни доверительный тон голоса, ни беглость речи Джебраила, ни всегдашняя ясность его памяти нисколько не поблекли. Сквозь строки, выходящие ныне у меня из-под пера, подчас проступает его голос, перекрывая мой собственный.
Именно Джебраилу я обязан изначальной заветной уверенностью, что Таниос — не только персонаж местного мифа, что он некогда был существом из плоти и крови. Доказательства явились позже, годы спустя. Когда случай мне помог добраться до подлинных документальных свидетельств.
Среди них чаще всего я буду ссылаться на три источника. Два из них принадлежат людям, неплохо знавшим Таниоса. А третий — ближе к нашим дням. Его автор — служитель церкви, скончавшийся сразу после завершения Первой мировой войны, монах Элиас из Кфарийабды, судя по имени, мой земляк, хотя не могу припомнить, чтобы кто-нибудь о нем упоминал. Его опус имеет такое заглавие: «Хроника горного селения, или История деревни Кфарийабда вкупе с примыкающими к ней поселениями и фермами, а также памятниками истории и архитектуры, расположенными в ее пределах, с описанием местных обычаев и повествованием о заметных людях и происшедших с соизволения Всевышнего важнейших событиях».
Диковинное, неровное, весьма путаное сочинение. Некоторые страницы написаны с очень личным чувством, перо горячится и обходится без условностей, его заносит на каком-либо вираже, вознесшемся над делами земными, отбрасывает за пределы возвышенных дерзновений, и тогда чудится, что перед тобой настоящий писатель. Но внезапно, словно бы устыдившись и раскаявшись в греховной гордыне, наш монах поджимается, стушевывается, его речь делается плоской, сам он умаляется во искупление стилистических излишеств, низводит свою задачу к ремеслу благочестивого компилятора, принимается громоздить заимствования из древних авторов и признанных современных сочинителей, преимущественно тех, кто пишет в стихах, отдавая предпочтение арабским виршам эпохи декаданса, где строка отягчена избытком условных красивостей и напором мертворожденной страстности.
Во всем этом я отдал себе отчет, лишь с превеликим тщанием двоекратно пропахав добрую тысячу страниц, а если точно — девятьсот восемьдесят семь, от предуведомления до традиционного финального стиха, обращенного к читателю книги и взывающего к его, читателя, снисходительности. Впервые заполучив в свои руки и раскрыв сей труд с большим неброским черным ромбом на зеленом переплете, я обратил внимание только на монотонную чреду мелких каллиграфических строк без точек и запятых, равно как и без абзацев — одна плотная вязь, тесно стиснутая узкими полями, словно картина рамой, и лишь то там, то тут — выбившиеся из стада летучие слова, напоминающие о последних слогах предыдущей страницы и предвосхищающие первое слово страницы, которая воспоследует (типографы называют их кустодами).
Еще не решаясь углубляться в чтение, угрожавшее занудить меня сверх меры, я краешком пальца теребил страницы, уголком глаза заглядывая внутрь, когда внезапно сознание высветило вот эти строки (я их тотчас переписал, а впоследствии перевел и снабдил знаками препинания):
На четвертое ноября 1840 года приходится загадочное исчезновение Таниос-кишк'а… И это при том, что у него было все, все, чего при жизни может достичь смертный. Прошлое благополучно разрешилось, дорогу в будущее ему разровняли. Вряд ли покинул он деревню по собственному изъявлению воли. Нет никаких сомнений в том, что над скалой, носящей его имя, тяготеет проклятие.