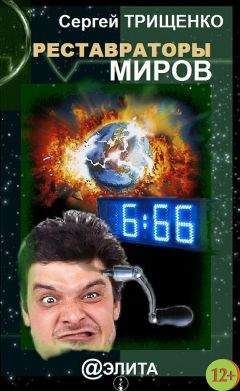ВЯЧЕСЛАВ НЕДОШИВИН. ПРОГУЛКИ ПО СЕРЕБРЯНОМУ ВЕКУ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
У каждого здания своя история, каждое несет через столетия рассказ о жизни своих обитателей и о происшествиях того времени. В них стиль, вкус и характер эпохи дней прошлого…
Анатоль ФрансПо этому городу нужно ходить на цыпочках, а если разговаривать – то шепотом. Этого, разумеется, никто не делает: ни туристы, ни уж тем более шумная и растрепанная молодежь, перелетающая с улицы на улицу. Я думаю, это – временно. Рано или поздно, если захотят всмотреться в город, прислушаться к его камням, они все равно перейдут с безумной побежки, с привычного ора на почти беззвучный шепот и очарованный шаг. Иначе ведь не понять этого чуда, этой необъятной гранитной иконописи, с которой можно слой за слоем, как это делают терпеливые реставраторы, «смывать» историю за историей. Вообще историю – в прямом смысле этого слова. Иначе никогда не увидеть мелькнувшую в окне за серо-палевой шторой тень бесплотной Ахматовой; не поймать жуткого взгляда летящего в таксомоторе на свою первую и единственную дуэль Волошина; не улыбнуться прыгающей походке Мандельштама, спешащего сквозь танцующую метель на Марсовом поле за широко шагающим Гумилевым, и не услышать за плеском вёсел и криками потревоженных чаек на рассветных Островах, что же там, в лодке, нашептывает улыбчивой красавице с пепельными волосами Александр Блок…
Я люблю ходить к домашним «гнездам» поэтов. «Шоколадные, кирпичные невысокие дома, здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!..» Их, домов, где жили или бывали мои любимые поэты, сохранилось всего-то, ну, сотня, ну, может быть – другая. Отнюдь не шоколадные – всякие, в том числе совсем обветшавшие, – они стоят и в маленьких переулках, и на широких проспектах. И по-прежнему безымянны, ибо никто не зовет их «блоковскими» или «есенинскими» домами. На фасадах их пока еще не висят мемориальные доски, сообщающие, кто здесь жил и когда.
Повезло «золотому веку» русской литературы – мемориальные доски, как ордена, сияют на его домах. А вот поэтам века Серебряного – как с легкой руки писателя Иванова-Разумника была названа первая четверть XX века – повезло значительно меньше. Их имена не только не выбивались на мраморных досках – они, на моей еще памяти, буквально выжигались из нашей жизни. Ведь век-то, стоит копнуть любой исторический документ, всегда готов обернуться, сверкнуть отнюдь не праздничным серебром – диким переливом парной крови.
Но именно тогда довелось жить Блоку и Сологубу, Кузмину и Мандельштаму, Ходасевичу и Северянину, Ахматовой и Гумилеву – легендам русской поэзии. И нам, с каждым вздохом отдаляющимся от их эпохи, все интереснее становится, где, а главное, как жили они под грозными небесами колыбели трех русских революций. В каких домах снимали квартиры, в каких углах устраивали жилища, по каким лестницам поднимались, где влюблялись, пировали, стрелялись на дуэлях и встречались порой в последний раз? Ведь образно говоря, если есть история литературы, то есть и живая «география» ее. Тот неизвестный, ушедший, казалось, в небытие Петербург, по которому, зная факты и имея хоть капельку воображения, можно легко, следя за судьбами поэтов, пройтись след в след – пешком.
Знаете ли вы, про какое окно Блок написал, что оно «горит не от одной зари»? Из какого окна Владислав Ходасевич высматривал идущую к нему на свидание Нину Берберову или у какого подоконника сидела Анна Ахматова, когда к ней, перед арестом и расстрелом, в последний раз пришел Гумилев? А ведь эти окна и тысяча других таких же еще живы. И разве они не являются, если говорить шире, окнами в глубочайшую духовную культуру Петербурга, в великую историю России?
Звучит, согласен, несколько пафосно. Но если снизить тон, если говорить о вещах приземленных, то нельзя не заметить: сегодня, когда опубликовано то, что так долго было под запретом, когда открываются самые закрытые архивы, когда появляются никогда ранее не читанные мемуары и воспоминания свидетелей того времени, когда сошлись наконец три великих пласта, три необъятных «архипелага» русской словесности – литература запрещенная, эмигрантская и написанная «в стол», – мы вправе констатировать: история ее требует если не создания наново, то хотя бы значительной корректировки. Ведь вчерашние «великие» поэты ныне на наших глазах превращаются вдруг в «знаменитых», а иногда – по нисходящей! – вообще в просто «известных». И, разумеется, наоборот – безвестные дотоле имена неожиданно становятся позарез необходимыми всем. Я и сам, признаюсь, если отбросить холодную объективность повествователя, когда-то считал Ахматову более значимым поэтом, нежели Цветаева, а Пастернака – более великим, чем Мандельштам. Что говорить, сегодня даже знакомые со школы имена Блока, Есенина, Маяковского после новых публикаций, возникших из небытия мемуаров, обнародованных документов вдруг начинают выглядеть иначе – не так, как мы понимали их вчера. По сути, мы открываем сегодня неизвестных, хотя и давно знакомых нам поэтов.
Кто-то очень верно сказал однажды: «правда – в деталях». В бытовых подробностях и творческих экстазах, в шокирующих ситуациях и «говорящих» обстоятельствах, в грубых фактах и трогательных мелочах – в том «соре», из которого и «растет» настоящая поэзия. Именно это больше всего интересовало и вдохновляло меня. Свыше десяти лет выписывал я из мемуаров и воспоминаний даже не важные, казалось, события жизни поэтов, бесконечные «истории любви», сцены и сценки ушедшей уже жизни, сравнивал разные мнения о них и добирал недостающие факты, которые могли бы «дорисовать» знакомые уже портреты. Это сопоставление фактов, когда тени свидетелей жизни поэтов словно садились в кружок и вспоминали, как все было на самом деле, это сравнение мемуаров, когда об одном и том же случае рассказывают и два, и даже пять человек, было, пожалуй, самым увлекательным в работе над этой книгой. Особенно если «держать в уме» при этом чье-то ироническое выражение, бытующее в мире историков: «Врет, как очевидец». Вот разобраться: где правда, а где ложь, где легенда, миф, сплетня, а где все-таки реальность, – это и было некоей сверхзадачей моей, увы, конечно же, несовершенной и незаконченной еще работы…
Знаю, мне, возможно, возразят: правда – в стихах поэтов. И я соглашусь с этим. Но стихов в этой книге вы почти не найдете. Во-первых, потому, что они, по счастью, все опубликованы ныне и читателю остается только протянуть руку к книжным полкам. А во-вторых, оттого, что жизнь поэтов, включающая в себя и мотивацию создания бессмертных стихов, и темы их, не менее интересна и глубока, но о ней почему-то либо не рассказывается вовсе, либо сообщается скороговоркой, биографическими эпизодами в сугубо литературоведческих трудах. Упаси меня бог, я ничего не имею против этого достойного труда уважаемых мной людей – из крупиц их изысканий, как в детской игре пазл, складывается в конце концов общая картина жизни писателей. Без их работ не было бы и этой книги. Я – о другом. О том, кто же и когда нарисует эту общую картину? И главное, как? Другими словами, я не раз замечал: те, кто знают и творчество, и жизнь поэта, не пишут, как правило, для «широкого читателя». Пишут научным, «птичьим» языком, который иному человеку не просто скучен – непонятен. А те, кто могут рассказать о поэте увлекательно, чья профессия – писать, те, к сожалению, зачастую не знакомы с предметом и глубоко, и всесторонне. И неосведомленность свою в фактах и деталях (это же сколько, простите, надо прочитать!) пытаются подменить некоей «художественностью», попыткой «реконструировать» жизнь великого человека в меру своего понимания. Примеров тому тьма, я не открываю здесь Америку, вы и сами, не сомневаюсь, не раз «корчились», читая фразы: «Гумилев подумал…», «Блок засомневался…», «Ахматова решила…». Да откуда вы знаете, хочется сказать им, что он «подумал», а она – «решила»?.. И именно этого мне больше всего хотелось (опираясь более чем на три сотни проштудированных свидетельств) избежать в своей книге. А уж что получилось – судить вам, читатели…
Книга, которую вы держите в руках, довольно откровенна. Вы можете спросить: а есть ли предел откровенности в представленных очерках? Есть. Он ровно такой, каким был в первоисточниках – в мемуарах, воспоминаниях, письмах и дневниках моих героев. Вот еще почему, скажу заранее, никаких упреков иных пуритан вроде «подглядывания в замочную скважину» или «копания в грязном белье» я не принимаю. Во-первых, откровенным и даже грешным было само «серебряное» время. Во–вторых, знание любовных и прочих «интимных» обстоятельств помогает (что тут поделаешь?) понять и мотивы творчества, и поводы рождения стихов. А в-третьих, и это главное, – не будем забывать, что начиная с символистов (конец XIX века) основным принципом стихотворцев стало, как известно, соединение ЖИЗНИ поэта и его ПОЭЗИИ. Поэты считали (и в этом была известная революционность их), что надо «творить» не столько в стихах, сколько в жизни. И необычную жизнь эту «делать» потом, иногда сознательно бесстыдно (подчеркиваю для стыдливых!), «объектом» своей поэзии. События биографии (дуэли, измены, банальные драки, «нетрадиционная ориентация», а порой и не вполне благовидные поступки), равно как и тончайшие переживания поэтов, – все переплавлялось ими в стихи. Это было ошеломляюще ново для России, но в конце концов стало одной из отличительных черт поэзии Серебряного века. Вот еще почему рассказ о жизни поэтов не только может – должен быть предельно откровенен. Другое дело, как заметил один критик, тонкое все равно должно остаться тонким, простота не вправе превращаться в грубость, а вещи чисто житейские должны не унижать героев, а по необходимости «дорисовывать» их. Ведь все в конечном итоге упирается в авторскую меру понимания поэта и его жизни, а та, в свою очередь, зависит уже только от меры личности рассказчика. Подлый рассказчик и напишет подло, за что бы он ни брался…