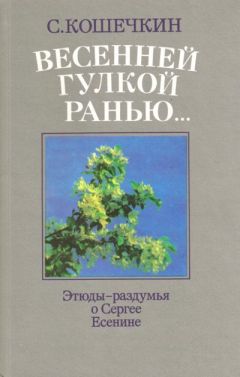Сергей Волков
Дети пустоты
Грохочет всем своим железным нутром, ревет, рыдает электричка. Мотают головами в такт ее трясучей езды заспанные пассажиры. За мутными окнами проносятся унылые пригородные пейзажи — гаражи, трубы, заборы, а за ними в серой дымке — дома, дома, дома…
Тёха, Шуня, Губастый, Сапог — все спят, измотавшись за предыдущий день. С момента начала нашего отчаянного броска на восток, навстречу солнцу и новой жизни, прошли целые сутки, но мы не добрались даже до Казани, зато остались почти что без денег.
Я сижу, сунув руки в рукава куртки, — так теплее. Прокуренный, продышанный вагон несет нас по кочковатым рельсам. Сколько всего он видел, сколько событий произошло в нем, в его неуютной гулкой утробе! Вытертые сиденья, заплеванные тамбуры, расхлябанные двери, со стуком смыкающие металлические челюсти за спиной очередного пассажира, — если бы все они умели говорить, то поведали бы миру бесконечную, как жизнь, повесть о горе-злосчастье, о беде-радости…
Мне иногда кажется, что вся наша страна прошла через эту вот электричку, через ее знобкие вагоны. Люди ездили, ездят и будут ездить в ней на работу, в гости, на свидания, на дачи; для кого-то она — начало куда более длинного пути, первый шажок, ведущий на вокзал, с которого купейный вагон комфортно умчит человека в дальние дали.
Странный кочевой покой электрички обманчив. В любой момент готов он взорваться яростной бабьей перебранкой, зазвенеть от неправедных и потому вдвойне обидных слов. А то еще хуже — ворвется в вагон угрюмая орда подогретых дешевым пивом или еще какой дурью парней, и примутся они выискивать среди испуганных пассажиров несчастного замурзанного чучмека, а найдя, изувечат, забьют бедолагу, словно это он виноват в их беспросветной окраинной жизни…
Тадахают на стыках рельсов колеса. Торопится, спешит электричка. Заскорузлая краска на стенах вся в грязных натеках, на полу — затоптанные темные пятна. Что это — пролитый чьим-то ребятенком сок или вчера в глухом предночье разыгралась тут одна из бесчисленных трагедий, от которой сегодня только и осталось что безутешные родственники где-нибудь на станции «347-й километр» да это вот кровавое пятно под ногами?
Никто не ответит. Прикрыв глаза, трясутся молчаливые пассажиры, тянет из тамбура горьким дымом дешевого табака. Хрипит сетчатый динамик, объявляя станции. Во всю железнодорожную прыть летит вперед электричка. И мы летим вместе с ней…
Глава первая
Куда ты уедешь?
В старину была такая песня — «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля». Я ее не слышал, а слова в газете прочитал. Наверное, тогда и правда в Москве красиво было. А теперь утром стены Кремля фиолетовые какие-то, потому что машин на набережной много и все газуют. Там часто пробки, но мы там не работаем — косари гоняют, говорят — нельзя.
Наше место — на Сущевке, у метро «Рижская». Вообще-то это район бригады Комка, но у него сейчас людей мало и он редко на Сущевку заглядывает. Если что, мы или смываемся, или башляем. Тёха злится, но платит — у Комка взросляки в бригаде, могут грохнуть.
Холодно. Ветер несет колючий снежок, морозит руки. Под ногами хрустит сахарная корочка льда, пухлое небо лежит на паутине проводов. Из зева метро несет гниловатым подземным теплом. Разноцветным ледоходом текут по улицам бесконечные потоки машин.
Мы идем на работу. Тёха впереди, рядом с ним семенит Хорек и достает нашего бригадира:
— Тёха, а ты трахался?
Тёха лениво поворачивает голову и отвешивает Хорьку щелбан.
— Трахаются телки и голубцы. Понял?
— Ну… — часто кивает Хорек, потирая ушибленный лоб.
Щелбаны Тёха делает будь здоров. Ковши у него как у взрослого, мосластые и тяжелые.
Следом за ними цокает каблуками Шуня, а вокруг нее увиваются Сапог и Губастый. Там свой разговор.
— Девушку надо по походке выбирать, — просвещает пацанов Шуня. — Если телка идет как пишет — значит, трахается хорошо. А у парней у кого длинный нос — у того и член длинный. А у баб писька как губы. Если губы красивые — значит, и писька красивая.
— Дура, я же ее не целовать буду, — краснеет Губастый.
— Сам дурак. Красота спасет мир, хи-хи.
Эта Шуня прибилась к нам две недели назад. Говорит, что со спецприемника дернула. Еще говорит, что ей четырнадцать и что путанила на точке у хачиков. Врет, наверное, — она худая, как велосипед, мордочка узкая, рыжие волосы хвостиками. На таксу, в общем, похожа. Кому она такая нужна?
Сапог сразу к ней полез, в первый же день. А Шуня ему всю рожу исцарапала. Психанул он тогда, но Тёха беспределить не дал. «Не на зоне», — сказал. Сапог с тех пор на Шуню облизывается, зажимает ее при случае. Любовь у него типа.
— Э, звездоболы, заткнитесь там! — не оборачиваясь, бурчит Тёха. — Заманала ты, Шуня, со своим шалавным базаром. Дала бы пацанам — и всех делов.
— Не, я малолеткам не даю, — улыбается Шуня.
Сапог и Губастый ворчат что-то недовольными голосами.
Последними идем мы с Бройлером. Вернее, я иду, а Бройлер, конечно, едет. Люди от нас шарахаются, косари косятся, но не лезут — мы ж бомжи, бездомники, заразные и вообще уроды. С нами не связываются.
Бройлер — шизанутый. Всегда чего-нибудь говорит, рассказывает — в общем, пургу несет. Тёха его не любит, называет «жирняком» и «терпилой», но Бройлеру хорошо подают, особенно деловые бабы, которые ездят на дорогих тачках.
Руки Бройлеру отрезало поездом, давно еще, при Горбачеве. Он шел домой пьяный через железку, лег послушать, «как рельсы стукают», и уснул. Электричка прошла и обе руки по локоть оттяпала. А уже потом, когда его из квартиры выселяли, с лестницы столкнули, и он спиной ударился. С тех пор ноги у Бройлера не ходят. Мы возим его на инвалидке, коляске такой складной с ручками.
Бройлеру сорок с чем-то там лет. Говорит, что он философ. «Я созерцаю жизнь со дна колодца. Здесь солнца нет. А есть на свете солнце?» — это его любимая фраза. Еще он любит пожрать и выпить. Но много бухла мы ему не даем — потом не заткнешь, будет до утра гнать всякую лабуду.
***
Утром, когда мы собирались на работу, пришлось завернуть на мусорку у «буржуйского» дома — нужно было набрать пустых пластиковых бутылок под воду. Пока Тёха с Сапогом курили, а Шуня кормила голубей, мы с Губастым и Хорьком лазили по бакам. Хорек и нашел это.
Из-под кучи мусора торчал окровавленный пакет, а в пакете лежал весь какой-то багровый, сморщенный, скрюченный человечек. Маленькая ручка торчала в сторону, и пальцы на ней были сжаты в кулачок. Хорек закричал, и мы бросились к нему.
— Сука какая-то родила. И убила, тварь! — выдохнул Сапог. — Найти бы…
— Бедненький, — всхлипнула Шуня.
Бройлер весь скривился, хотел что-то сказать, но вместо этого сунул в рот свою культю и отвернулся.
— Пошли отсюда, — бросил Тёха. — У магазина телефон. В косарню позвоним.
И мы пошли. Сапог ругался вполголоса, Губастый бормотал что-то про плохую примету, Хорек испуганно поглядывал на нас и молчал. Я вез Бройлера, и его вязаная синяя шапочка качалась у меня перед глазами. Шуня продолжала тоненьким голосом причитать:
— Он же маленький такой… Он же и не знал ничего, не видел. Он же не жил совсем!
— Значит, повезло, — ответил ей Тёха…
***
Работать в пробке — это уметь надо. Таджики и прочие чурки вот не умеют, ходят от тачки к тачке, руки тянут, канючат. Бройлер говорит, что они «не учитывают психологию». А мы — мы учитываем. Мы знаем: к семейным и не суйся, к одиноким мужикам в иномарках подходи осторожно, а вот если в «БМВ-восьмерке» парочка — идти можно смело. Хозяин перед бабой своей выдрючиваться будет и отвалит по полной: сотку баксов можно взять и даже больше. Главное — заинтересовать и разжалобить. Бройлер это здорово умеет. Подвожу я его к «Майбаху», он культяпки свои поднимает и рычит в открытое окно:
— Когда Ницше объявил, что Бог умер, Сатана возрадовался. Покиньте воинство царя тьмы, помогите ближнему, пострадавшему за вас в горячих точках бытия, — и на Страшном суде вам зачтется.
Судя по тому, сколько после этой телеги обычно дают Бройлеру, Страшного суда люди боятся.
— И про Ницше они так или иначе слышали, — объясняет он, посмеиваясь. — Кто такой, конечно, не знают, но в гламурных журнальчиках культуртрегеры им мозги царапали этой фамилией.
Сегодня денек ожидается тот еще. Понедельник, небо в тучах, того гляди снег пойдет. Подходим к перекрестку. Пробка уже стоит. Невыспавшийся народ в тачилах зевает и слушает «Радио Шансон» или «Эхо Москвы».
— Шуня — по левому ряду, Сапог — в хвост, Хорек и Губастый — к светофору, — командует Тёха. — Пятёра, вези Бройлера по разделительной.