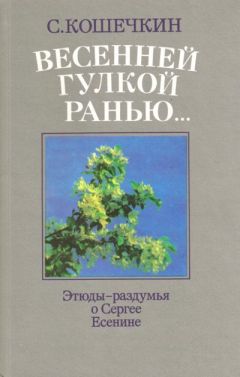Ловлю Тёхин взгляд — в нем злость и отчаяние. Он стоит в полуметре от мужика, но сделать ничего не может. Косари видят его и, самое главное, видят мужика. Они обрывают разговор, приосаниваются — почуяли, гады, добычу.
— Ой, Сашенька!.. — неожиданно вскрикивает Шуня, едва не переходя на визг.
Я дергаюсь, а она повисает на мне и вдруг начинает остервенело целовать меня теплыми мягкими губами — в губы, в шею, в щеки… Стою, как дурак, пытаюсь оттолкнуть ее, оторвать от себя. Косари оглядываются, смотрят на нас с интересом.
— Молодежь совсем с ума сошла! — ворчит какая-то бабка, проходя мимо. — Им еще сиську мамкину сосать надо, а они уже целуются взасос, да при всех!
Продолжая бормотать что-то себе под нос, бабка удаляется. Я больше не отталкиваю Шуню, я через ее плечо смотрю вслед бабке. Рядом с ней все той же беспечной походочкой идет Тёха.
И на плече его висит темно-зеленая сумка с надписью «Найк»…
За моей спиной косари кантуют пьяного. Он мычит и пытается драться. Шуня тихонько хихикает. Ее поцелуи горят у меня на лице. Я чувствую себя полным лохом. Все сделано без меня. Вот сейчас Тёха уже передал сумку Сапогу, и тот ринулся к Губастому, который поднимет нашу добычу наверх. Все сработали как надо. Один я оказался тормозом, не сообразившим в самый важный момент, что косарей надо отвлечь.
Нет, никогда я, наверное, не привыкну к этой московской теме — все надо делать быстро, жестко и желательно весело. Бройлер называл это «импровизационным стилем жизни». Я так никогда не умел и до сих пор не научился.
Глава третья
Пацаны, не надо…
Помню, вожделенная Москва встретила нас с Губастым ошеломляющим шумом. Зачуханные, вонючие, мы вывалились из рязанской электрички на перрон Казанского вокзала, бестолково озираясь.
Оставшихся денег хватило на бутылку газировки и две сосиски в тесте, называемые в столице почему-то «хот-догами». Усевшись на каменный парапет у входа в подземный переход, мы жрали эти «хот-доги», запивали их колючей шипучкой, и тут к нам подошли два мента.
— Ну-ка, пошли отсюдова, — лениво сказал один из них, маленький и усатый.
— Еще раз увидим — заберем, — добавил второй, повыше, с бородавкой на щеке.
И мы пошли. Шли долго, почти весь день. Широченные улицы, сплошной поток машин, высокие дома, яркие щиты с рекламой — и люди, люди, люди…
Губастый пытался поначалу объяснять мне, что тут и как, но вскоре его книжно-газетных знаний оказалось недостаточно, и он подавленно замолчал.
Когда стало темнеть, мы решили найти какой-нибудь подвал на окраине города, чтобы переночевать. Про московские окраины Губастый знал только, что там стоят какие-то «спальные районы». Вот эти самые районы мы и искали.
На улицах зажглись фонари. Ноги у нас гудели и буквально отваливались. Поэтому, когда поблизости обнаружилась остановка, а возле нее автобус, старый, оранжевый, такие и у нас в Арамиле ходили, мы не раздумывая шмыгнули внутрь, поднырнули под турникет и затаились на задней площадке.
Автобус ехал час, а то и больше. Билеты с нас никто не спрашивал, да и вообще никому не было до нас дела.
— Тут, наверное, все сами по себе живут, — предположил Губастый.
Я с ним согласился.
Выбравшись из автобуса на темной окраине, мы огляделись. Справа — бетонный забор, слева — деревья, за ними — многоэтажки, приветливо и уютно светящиеся множеством огней. Особо выбирать было не из чего, и мы пошли на эти огни через те самые деревья, через кусты и гаражи. Там, у гаражей, и нарвались.
Дорогу нам заступило человек десять пацанов, в основном наша с Губастым ровня, но двое-трое были явно постарше. Мы слишком поздно заметили их, а когда заметили, оказалось, что дела плохи — москвичи обступили нас со всех сторон.
— Откуда? — ехидно поинтересовался мордастый парнишка в короткой куртке и ярком красно-белом шарфике на шее. Мне этот девчачий шарфик показался смешным — у нас такой ни один пацан ни за что бы не надел, и я ответил смело и с улыбкой:
— Мы-то? С Урала, а че?
Вокруг заржали. Они смеялись натужно, гыгыкая, словно хотели показать, что я сморозил несусветную глупость. Губастый стоял рядом со мной и шумно сопел. Ему было страшно. Постепенно, сквозь отупляющую усталость, до меня тоже дошло — а ведь будут бить. Уж слишком громко хохочут.
— За кого болеете, уралмоты? — снова спросил мордастый.
Я пожал плечами — ни за кого, мол.
Тогда он начал объяснять, что мы — чмошники и чушки, что мы зря приехали в «их Москву», которая не помойка для таких уродов. Мы молчали — а что тут скажешь? Я вначале потихоньку оглядывался, думал — получится сорваться, а потом, когда они обступили нас, только следил за руками, чтобы не пропустить первый удар.
Его пропустил не я — Губастый. Один из москвичей неожиданно врезал ему ногой в живот. Я дернулся в сторону, тут и на меня навалились со всех сторон. Били они умело, больно и сильно.
Когда тебя бьют шоблой, главное — чтобы ничего не отбили в животе. Поэтому нужно стараться закрывать его прижатыми локтями. Морду по возможности тоже подставлять не стоит, а поскольку руки заняты, надо согнуться и прижать подбородок к груди. И не падать. Как можно дольше не падать. Упадешь — все, будут пинать и топтать. И если не надоест, забьют до смерти.
Губастый упал сразу. Его месили четверо. С уханьем, с матерками, с радостными вскриками. Я, зажимаясь, мотался между деревьями и пытался прятаться за шершавыми стволами. Удары сыпались на меня со всех сторон. Во рту стоял противный привкус крови. Голова казалась гулкой и пустой, как кастрюля, а отбитых рук я просто уже не чувствовал.
— Вали его! — заорал кто-то.
Наверное, я разозлил их тем, что слишком долго сопротивлялся. Сразу несколько человек вцепились в меня, куртка затрещала, и тут страшной силы удар швырнул мое и без того битое-перебитое тело на землю.
«Хана, — подумал я тогда. — Сейчас убьют…»
И вдруг все разом замолчали. Меня не трогали. На всякий случай я подтянул колени к животу и замер. Вокруг слышалось только тяжелое дыхание запыхавшихся москвичей и хруст примороженной травы у них под ногами. А потом до меня долетел негромкий голос, уверенно и веско выговаривающий:
— Че, отморозки, рамсы попутали? Кто тут самый борзый? Ты? Сю-да-а иди-и!
И тут же — смачный шлепок, какой бывает, если ударить человека открытой ладонью по лицу.
— Че, сука, борзый, да? — И снова удар, и еще.
Я повернул и чуть приподнял голову. В стороне топтались наши обидчики. У дерева шагах в пяти от меня скулил и дергал ногами Губастый, а прямо за ним какой-то парнишка в коричневой крутке-пилоте, придерживая одной рукой того самого москвича в шарфике, методично вмешивал ему в торец, приговаривая:
— Борзый, сука? Борзый?
— А-а-а! — закричал пацан, пытаясь закрыться от ударов. — Гаси его! А-а-а!
Остальные дернулись было на помощь своему главарю, но обладатель пилота легко отшвырнул избитого и буром попер на всю кодлу выкрикивая страшные слова:
— Смелые? Кто смелый? Ты?! Сю-да-а иди-и! Печень вырву!
Москвичи такого напора не выдержали — сиганули кто куда, и спустя несколько секунд на задах гаражей нас осталось трое.
— Э, пацан! — Наш спаситель подошел к Губастому, ткнул его ногой. — Живой? Встать можешь?
Пока Губастый со стоном и плачем поднимался, размазывая по лицу кровавые сопли, я ощупывал себя. В детдоме мне не раз и не два доводилось получать крепких кренделей, но так сильно и остервенело меня, пожалуй, били впервые.
— Ноги-руки целы? — Парень в пилоте повернулся ко мне. — Идти можешь? Тогда валим отсюда. Быстро!
И мы свалили. Свалили настолько быстро, насколько могли. Долго шли по какой-то мокрой и темной лесопосадке, пока не пришли к заброшенной кирпичной хибаре без окон. Разведя костер и скинув пилот на колченогий табурет, парень прищуренными от дыма глазами внимательно оглядел нас, закурил, катнул грязный баллон с водой.
— Умойтесь. Меня Тёха зовут.
— А почему «Тёха»? — спросил я, чтобы что-то спросить.
— Фамилия — Тетёхин, — ответил он.
Я в другое время улыбнулся бы, наверно, смешная фамилия, но сейчас было как-то не до смеха.
— Откуда вы? — спросил Тёха.
Памятуя, какую реакцию вызвал мой ответ в прошлый раз, я прошамкал разбитыми губами:
— Сегодня только приехали.
— Не тупи, — раздраженно сказал наш новый знакомец. — Я спросил — откуда?
Губастый, испуганно поглядывая на меня, ответил.
— Че тут делаете? — продолжил допрос Тёха.
— Мы с детдома сбежали, — мне почему-то не хотелось рассказывать про то, что в Москве «можно жить».
— Ты че, сука, травишь? — рявкнул Тёха, резко поворачиваясь ко мне. — Сказал — не тупи!
И тут Губастый, которого, видимо, все последние события вконец измотали, заревел навзрыд. Он сидел на синем пластмассовом ящике из-под бутылок, держась окровавленными руками за грязную голову, и плакал, как маленький ребенок, — задыхаясь, захлебываясь слезами…