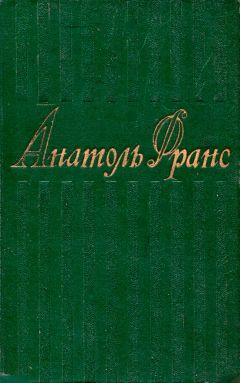— Ну и что по-твоему, — обратилась Румзина к Митькиной, — взять теперь всех и переселить в город, к культуре твоей?
— Зачем переселять? Умные — сами переселятся, а глупые — пусть в навозе копаются.
— Жалко мне тебя, Анечка, — неожиданно грустно сказала Ирка, — вот ты и умная вроде, и красивая, и в городе живешь, а пустая какая-то… картонная. Радоваться жизни не умеешь. Суетишься, суетишься, все выгоду ищешь, а то, что жизнь настоящая, молодость мимо проходит — не видишь.
— Суетиться надо, чтобы в жизни хорошо устроиться, чтобы… — но Ирка не дослушала, махнула рукой, забрала книжки и ушла.
— Чтобы и погулять, и замуж хорошо выскочить, — докончила Митькина, глядя на Ленку с Любкой.
— За миллионера, — сказала Любка.
— За миллиардера. До свидания, тетя Катя, — и Митькина гордо удалилась.
— Какой уж у нас тут миллиардер… — вздохнула тетя Катя, — непьющий был
бы — вот счастье-то.
— Пойдем мы, тетя Катя, — и Любка потянула Ленку к выходу. — До свидания.
— Счастливо. Непьющих ищите, девки, непьющих.
Ленка с Любкой вышли и, несмотря на то, что им было в разные стороны, пошли в Ленкину, по направлению к Онего: до вечерней смены время еще оставалось, и можно было искупаться.
— Ну, Митькина, блин, вечно все испортит. В каждую дырку затычка.
Пустобрех, — высказалась Любка.
— Зато она красивая. Приятно ведь на красивого человека посмотреть, — вступилась Ленка, — платье вот тети Катино заметила новое, похвалила, а мы не заметили.
— А тебе бы только всех бы любить да жалеть!
— Знаешь, Люб, а мне иногда кажется, что я за этим и родилась — чтобы всех любить и жалеть, — призналась Ленка и сама замерла от того, что выдала свою
тайну, — вот ты знаешь, для чего ты родилась?
— Ну, мать… Что значит — для чего? Родилась и родилась. И ты родилась просто так. Выдумала только, что любить всех должна. Люби ты людей — не люби — легче им от этого ни фига не станет.
Может, Любка и еще чего сказала бы нравоучительного, но, свернув на перекрестке налево, она увидела шедших навстречу Ломова и Аркашу и вдруг растерялась.
— Хелоу! — заголосил издалека Ломчик, — Бонжур, мадамы! Хау-хау дую-дую? — Куда идете? — и Ломов нагло уставился на Любку.
— На озеро, — осторожно ответила та.
Ленка немного отодвинулась в сторону, почувствовав, что им что-то надо сказать друг другу. Аркаша тоже отошел вместе с ней. Мимо ребятня тащила игрушечный самосвал, доверху забитый травой — закладывали силос.
— Купаться? Голливудскую красоту свою до совершенства доводить? А потом этой красотой смущать покой мирных граждан? — витиевато спросил Ломчик у Любки.
— Каких граждан?
— Меня, например…
— Тебя смутишь!
— Я весь в смущении от вашей персоны…
Любка и вовсе не нашлась, что ответить. Ломов сам неожиданно смутился и отвел взгляд… Любка, заметив это, покраснела. Буркнула:
— Ну и шел бы с нами красоту наводить.
И они пошли вперед парочкой. Молча. Свернули на проселочную дорогу в Озерье. И шли, то сходясь, то расходясь по колеям, обходя лужи. Ленка с Аркашей шагали следом.
— Ничего, что я с вами? — спросил Аркаша.
— Пойдем, — позвала Ленка, чтобы не быть третьей лишней, купаться-то ей хотелось.
Они тоже шли молча. Только около маленького дачного домика Аркаша, глянув на огород, сказал:
— А картошка-то у них замуровела — не видать ботвы.
— Полоть и полоть… — согласилась Ленка, — гляди-ка, а дома кто-то есть: баре приехали?
— Похоже.
Когда подошли к озеру, Любки с Ломчиком не было видно.
“Баре приехали, баре!” раздался по деревне радостный клич алкоголиков.
Это значило, что в Озерье, в маленький дачный домик — избушку на курьих ножках — приехали дачники: баре. Баре, барыни — старушка-мать и ее, уже тоже пенсионерка, дочь — Иволгины наезжали в Куйтежи наскоками: быстро-быстро управиться с огородом, проверить, все ли на месте и, если удастся, чуть-чуть отдохнуть. Каждую весну они умудрялись посадить больше десяти соток картошки, овощей, две теплицы огурцов-помидоров, а потом не успевали за всем этим следить. Вот и сейчас картошка у неумелых дачниц заросла так, что сорняки закрывали ботву. Местные же алкоголики во главе с Манькой всегда были этому страшно рады: для них это — способ заработать на бутылку.
События развивались по определенному сценарию.
Весь вечер уставшие с дороги дачницы смотрели на свои плантации с ахами и охами в глубокой печали. А когда просыпались утром — огород был выполот, окучен и даже полит. А перед домом стройной шеренгой стояла похмельная “тимур и его команда” с протянутой рукой и вечной просьбой в глазах: хозяйка, дай на бутылочку. На бутылочку, обычно, приходилось давать. То есть, конечно, их ведь никто не просил, и сорняки обратно уже не посадишь, но ссориться с алкашами не хотел никто, даже местные — не то, что приезжие. Воровство добралось и до Заонежья.
Воровали все: телевизоры, настольные лампы, одежду, простыни и даже ложки с вилками. Воровали картошку из ям. Потом ходили по домам со всем добром и, не стыдясь, предлагали ворованное за копейки, лишь бы наскрести на бутылку. Иволгиных уже один раз вот так обворовывали. Пытались они по бабки Лениному совету зааминить1 дом — веры не хватило. Теперь вот наловчились по осени копать в огороде яму и запрятывать туда все пожитки, а сверху ставить бочку для воды.
1 Зааминить — с молитвой вбить потайной гвоздь: пока его не вынешь — дверь не открыть.
Но рассорься с алкоголиками — они ведь и дом поджечь могут — что с них взять? Поэтому иногда и в долг давали, зная, что не вернут.
Той же Маньке поди попробуй, не дай. Манька вставала на колени, плакала, целовала ноги, умоляла — унижалась — крепкая, когда-то красивая баба с благородной сединой в волосах. Спектакль разыгрывала, конечно, но чтобы отказать, надо было иметь большую силу воли и холодный разум, который бы переборол глупое жалостливое сердце. Их у дачниц не было. И деньги они давали.
Долги, впрочем, алкоголики отрабатывали. Выкапывали осенью картошку совершенно бесплатно. Ну, разве что, за одну бутылочку. Сущая мелочь. Выкопать десять соток все-таки не шутка.
Кстати, про Маньку. Однажды Ленка, будучи одна дома, застала ее у себя в чулане. Манька выходила оттуда с двумя банками консервов в руке и очень растерялась, увидев Ленку.
— Леночка, мне очень кушать хочется, — умоляюще пролепетала Манька, крепко прижав к плоской груди банки, и, не поднимая глаз, выскочила.
Ленка ее не остановила: опешила. Да-к и что останавливать — отбирать?
“Бедная, бедная тетя Маня”, — подумала тогда Ленка и даже с охотой помолилась за нее. Но весь день потом была сама не своя.
…Сама собой прошла пара недель. Заложили силос. Сенокос подходил к концу, и везде вокруг домов по удобьям стояли ловкие аккуратные стожки. Зацвел иван-чай, и после коротких, но спорых дождичков грибы повалили валом, хоть косой коси. Было по-прежнему непривычно жарко для северного лета, даже марево стояло оранжевое, как на юге.
Лариска, кстати, неожиданно, по выражению Ленкиной бабушки, образумилась. Может, испугалась по-настоящему, что вслед за испорченным лицом Манька с Тоськой еще что-нибудь похуже сделают с ней. Может, и правда поняла свою вину, раскаялась. Так или иначе, она отписала Клавкин дом на четверых и ходила мириться к Маньке. Манька сначала долго и важно, для порядку, вопрошала ее, видела ли она, Лариска, когда-либо у нее грязные простыни, занавески — вообще грязь в доме, а потом они вместе напились в стельку. Ходили по всей деревне и орали матерные частушки так, что даже нетрезвые мужики краснели. Потом пошли к тетке Тосе, чтобы снять с Лариски сглаз. Помирились.
Говорят, даже видели, как Лариска стояла на перекрестке у остановки на коленях и просила у всех подряд прощения. Одним скандалом на деревне стало меньше. Да и вообще, все как-то успокоились, затихли, разнежелись под непривычным для Карелии теплым летним солнцем.
Коля-дурачок уже открыто гулял с Танькиной Сонькой, и о них радостно сплетничали. Он даже устроился вторым пастухом — зарабатывал деньги на свадьбу. По утрам появлялся у фермы на толстом рыжем Тюльпане с длинным кнутом в руках. Открывали ворота, выходило стадо и молча шло за ними.
Алевтина стала меньше браниться, стала как-то тише, покладистее и, кажется, светилась счастьем. У ее дома каждый день стояла серебристая иномарка.
Даже Танька засобиралась замуж за своего хахаля. Таньке перемывали кости все, кому не лень. И за четверых детей от разных мужей, и за посаженного в тюрьму, как уж всем стало казаться, в общем-то неплохого мужика. И за нового, будущего, пятого мужа, который был младше ее на шесть лет и, несмотря на свою косую сажень, выглядел меньше Таньки и даже смешно рядом с ней.