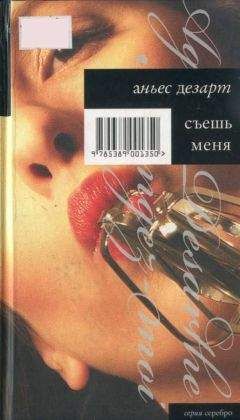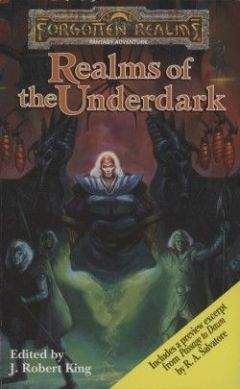Ящерица в пустыне поворачивает чешуйчатую голову, неотличимую от присыпанной песком створки раковины, так медленно, что добыча до последнего принимает ее за камень. С той же медлительностью я обернулась к сыну, ожидая, что меня сейчас же накроет волна беспредельной любви. Ничуть не бывало. Любовь не проснулась. Я внимательно вглядывалась в каждую черточку. Пухленькие ручки, сладенькие складочки, щечки-персики. Яркий, с полными, прекрасно очерченными губами ротик чуть-чуть приоткрыт. Маленький курносый носик, смешной и славный. Голубоватые веки, уже отороченные ресницами. Лоб мудреца, недосягаемого для житейских бурь, — его безмятежная гладкость ограничена светлыми бровками «домиком», придающими личику удивленное и одновременно всепрощающее выражение. Голова безупречной лепки, вся покрытая густыми пушистыми волосами. Прижатые к голове ушки, чистые, похожие на перламутровые ракушки-петушки, что мирно греются на песочке. Крепенький, подвижный. Ползунки на нем не собираются в складки, распашонка не расходится на груди, не торчит, наоборот, все одежки сидят на его крупном и удивительно складном тельце на редкость аккуратно. Мирное, ровное дыхание, серые глаза глядят на меня и, как утверждает медсестра, не видят, ведь я далеко, ведь между нами препятствие из плексигласа. Все подмечают, уверена я. Сын глянул мне в глаза, присмотрелся и понял, что все кончено. У меня больше ничего не получится. Не знаю, куда все подевалось. Но пришлось констатировать несомненный ошеломляющий голый факт: любви нет. Есть только благожелательный интерес и невыносимая щемящая жалость, то ли к сыну, то ли к себе самой.
Неделя за неделей шли впустую. Я научилась всему, что положено молодой матери. Персонал родильного отделения пожелал мне счастья, и меня выписали, я вернулась домой и, притаившись, стала ждать. Ждать мгновения, когда вернется любовь. В попытках поймать это мгновение я вбегала в детскую и заглядывала в кроватку, где безмятежно спал цветущий Гуго. По мере того как сын подрастал, в моей груди ширился ком бесчувствия. Я и не подозревала, что отсутствие любви сжимает сердце такой тоской, так давит и томит, вообще не подозревала, что подобное может быть. Я стала приглядываться к другим матерям. К тем, что толкали коляски со спящими, как у меня, или уже сидящими малышами, к тем, что медленно двигались рядом с трехколесными велосипедами, к тем, что со спортивными сумками едва поспевали за подросшими чадами. Я провожала их глазами как завороженная. Все они сохранили сокровище, которого я лишилась. Все-все. Строгие, снисходительные, ворчливые, слащавые. Я улавливала бесчисленные проявления материнской любви. В мимолетном взгляде, едва заметном движении, особой интонации. И ужасно страдала. Ни с кем не заговаривала об этом. Никто не заговаривал об этом со мной. Действительно, мой изъян неразличим.
Гуго рос. Стал играть своими пальчиками. Потом научился сидеть. Ползать на четвереньках. Стоять. Он никогда не болел. Смеялся. Целыми днями заливался смехом. Рано заговорил, причем не лепетал, а вещал, как заправский оратор. Расцвела и его красота. Ресницы стали еще длиннее и гуще. Глаза — еще больше. Кудри как у ангелочка. Ловкость и проворство. Когда мы с ним гуляли в парке, все матери мне завидовали. Не помню случая, чтобы он заплакал. Даже если падал и ушибался. Быстро заводил дружбу с детьми. Никогда не жадничал. Охотно делился ведерками и совочками. Всем улыбался. Занимал и успокаивал других крох, когда самому не было и пяти. Матери не прощали мне превосходства сына над их детьми. Они считали, что я слишком много им занимаюсь. Сын научился ездить верхом, управлять воздушным шаром, плавать, прыгать с вышки. Вместе мы путешествовали на лодке, готовили, рисовали по шелку, читали. Он стал чемпионом по боевому искусству капоэйре. А с отцом он не занимался ничем. Пристраивался у его ног, когда тот читал газету. Или сворачивался клубочком, клал голову ему на грудь и дремал. Я постепенно отвыкла следить, не встрепенется ли мое сердце. Я сдалась. Правда, иногда, подобно рапсоду, воспевающему деяния древности, повествовала себе самой о трех великих днях. С рождения сына до той проклятой пощечины. Возвращалась в прошлое и вспоминала. В памяти любовь отлично сохранилась. Я не могла почувствовать ее вновь, но мне по крайней мере удавалось вообразить, какой она была. Словно смотришь на давнюю фотографию. Где ешь персик на ярком летнем солнышке. Смотришь холодной зимой, персика нет и в помине, однако, сосредоточившись, восстанавливаешь вкус и то ощущение тепла, конечно, отдаленно, приблизительно, не по-настоящему. Словно рисуешь по трафарету. Попытка мучительная, ведь так хочется вернуться в тот летний день, шагнуть в иллюзорное пространство снимка, куснуть персик, погреться на солнце.
Моя тетя страдала диабетом. В старости ей пришлось ампутировать ногу до колена. Когда я навестила ее после операции, она сказала:
— Я шевелю ногой.
Само собой, я решила, что она говорит о здоровой ноге, и ответила:
— Отлично, тетя. Значит, вторая нога не затронута.
Она покачала головой:
— Ты не поняла. Я о той, другой. Ее нет, но я все еще шевелю ею.
Тетя помолчала, задумалась. А потом спросила:
— Где теперь, по-твоему, моя отрезанная нога? Они что, выбросили ее на помойку?
Ее взгляд потух. И теперь я все думаю, на какой помойке порыться, чтобы отыскать ампутированную любовь к сыну.
Утро прошло. А я так ничего и не сделала. Мало того, что вчера вечером у меня был внеочередной выходной, начало сегодняшнего дня тоже оказалось нерабочим. Такой роскоши я не могла себе позволить. Окончательно я пришла в себя при тусклом свете холодильника, который распахнула, с тем чтобы обозреть все-таки свои запасы. Глаза рассеянно блуждали от полки к полке, от пакета к пакету, от банки к банке. Как и следовало ожидать, молочные продукты не подкачали. А вот рыбы нет, впрочем, постных дней мы не соблюдаем, а если вдруг нагрянет вегетарианец, в моих закромах найдется, чем его накормить. Из телячьей голяшки соорудим оссо-буко[2], обжарю мясо с маринованным луком-шалотом, но на изыски времени маловато. Я вынула ножовку из футляра и принялась пилить. Яростно набросилась на кость, — мякоть, бледно-розовую, будто балетная пачка, можно и ножом порезать.
Зазвонил телефон. Неистово орудуя пилой, я локтем сдвинула трубку и, нажав рукоятью на кнопку, включила громкую связь. Оказалось, это Венсан беспокоится, не случилось ли чего со мной: половина одиннадцатого, а железная штора опущена. Готов предложить свою помощь, если что-то не так.
«Все ясно, — подумала я. — Хочет кофе». Этот человек обрастает привычками, как плесенью, рутина — его стихия.
— Ладно, заходи, — я перешла на «ты», будто так и надо.
С людьми лучше с самого начала попроще — нечего мяться, жаться, звать мужчин на «вы», пока в постель не затащат.
— Штору я поднять не могу, занята. Обойди с той стороны, подымись по лестнице и открой дверь черного хода. Код знаешь?
Код он знал и сейчас же пришел. С одной стороны, дружба с ним меня тяготила, с другой радовала: все-таки лучше, чем совсем никого.
От его майки несло стиральным порошком. Я почувствовала запах, поскольку, заметно приободренный моим панибратством, он чмокнул меня в обе щечки, здороваясь. Не слишком удобно целоваться, когда в одной руке у тебя пила, в другой голяшка, и ты стоишь, нагнувшись над разделочным столом. Так что Венсан расцеловал меня — как бы это сказать? — по касательной. И к лучшему, иначе даже порошок не заглушил бы того ужасного нестерпимого… Ну, вы поняли, о чем я. Он похвастался, что ему привалила удача. «Удачища», как он выразился. Я поняла, что мой долг немедленно поинтересоваться, что за удача. Но мне хотелось его подразнить.
— Хочешь кофе? — с невинным видом спросила я.
Нет, его так легко не собьешь, он упорно гнул свою линию:
— Можно, конечно, и кофе. Но по такому случаю лучше выпить шампанского.
Я отложила пилу и подошла к своей драгоценной кофеварке.
— Сегодня я припозднилась. Так что рассиживаться мне некогда. Но ты говори, я слушаю.
Он сделал вид, что не понял намека и кивнул с притворным безразличием.
Мне не удастся увильнуть от прямого вопроса. Точно так же он всякий раз изображает, будто пьет кофе исключительно чтобы доставить удовольствие мне. И теперь ни за что не признается, что горит желанием поделиться со мной новостями. Нет, это я сгораю от любопытства, а он идет мне навстречу.
— Так в чем тебе повезло? — сдалась я.
— Заключил одну сделку, — ответил он загадочно.
Значит, подробности придется вытягивать клещами. Но это хотя бы возможно, а вот сменить тему — дело явно гиблое. Нарезая тонкими кольцами лук-шалот, я спросила как можно громче, коль скоро на сковороде шкварчало, подрумяниваясь, мясо, а вытяжка гудела, как пчела: