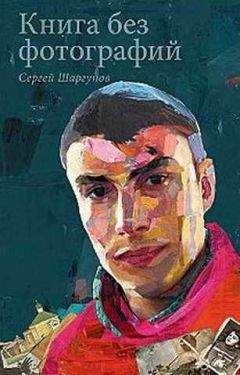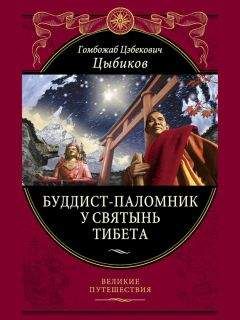Ознакомительная версия.
Она говорила, что дед мой, Иван Иванович, офицер и коммунист, тайно чтил Бога.
— Ночью ляжем, скажет: «Праздник сегодня, нельзя», и отвернется… А как на войну уходил, я ему молитву зашила — «Живый в помощи»…
Бабушка имела два класса образования, но страстно писала письма родне. Она не выпускала ручку, пока не закончит письмо. С ошибками, по-своему понятыми словами, однако зажигательным слогом изводила несколько страниц за полчаса.
Вначале, только приехав, она спросила: — Сереженька, а ты кем учишься-то? — На журфаке. — На жука?
Старинное трехэтажное здание Московского Университета напоминало мне огромный парник. Мы учились под стеклянным куполом.
На журфаке было немало модников и модниц в огромных бутсах, бесформенных штанах с десятком карманов, очками без диоптрий и оранжевыми волосами. Многие подъезжали на роскошных машинах. Визг тормозов и шипение колес слышались поутру.
Были свои задроты, обычно скромные и некрасивые, всегда с книжками — они держались вместе.
Были отморозки. Все время они болтались во дворе, у памятника Ломоносову, где дули шмаль и сражались в «сокс»: траурный плотный кусок ткани летал от ноги к ноге.
Смешно, что здесь, как некогда в советской школе, где все повязали красные галстуки, я оказался одинок. Под этим стеклянным куполом в моей группе, на моей кафедре, на всем курсе все были одинаковых настроений: ликовали навстречу времени.
Тут, в старинном доме напротив Кремля, все было трижды о’кей.
И это общее «ОК» рифмовалось со словом «одинок».
Как-то мы сидели с одногруппниками в курилке под названием «Санта-Барбара». (Так она называлась, потому что вход сюда, арочный, напоминал о первых кадрах сериала.)
— Слышали тему: Кислый пробашлял, ему по френчу автоматом ставят, — не без зависти рассказывал вечно возбужденный Толян.
Кеша, юноша с пепельным лицом и бледной кривой усмешкой, сплюнул окурок на пол.
— Что вы делаете! — подскочила уборщица.
Проворная, сухая, с самого утра до поздней тьмы в серой хламиде она сновала по журфаку и воевала с грязью. На трех учебных этажах справлялась одна.
— Что же вы творите! — она потянулась за окурком. — Как вам не стыдно мусорить! Есть же, куда бросать!
Кеша наступил на окурок, и ее пальцы наткнулись на радужный нос «Гриндерса».
— Ты чего? — она подняла глаза. Кеша достал новую сигарету: — Возьмите целую! Угощаю! Старуха боролась с ботинком, двигала в разные стороны, но поднять не могла, нога Кеши крепко прижала окурок.
— Понравился ты ей, — пихнул товарища в бок Петька, самый юный из нас, светленький малый в кожаном пиджаке.
— Да задолбала, — Кеша перестал ухмыляться. — Может, тебе зенку подлечить? — и он замахал перед старухой горящей сигаретой.
Сигарета носилась туда-обратно и делала мертвые петли, как самолет на военном аттракционе. Уборщица разогнулась. Бормоча что-то возмущенное и неясное, словно на чужом наречии, она скрылась в туалете, откуда вернулась с ведром, и принялась оттирать тряпкой дверь туалета. На двери розовела надпись «тужур фак!» — некий остроумник смешал французский с английским. Каюсь, я не вмешался во всю эту историю.
К стыду своему, я онемел. Все встали.
Уборщица, не поворачивая головы, тщетно стирала надпись. Мутная вода текла по двери туалета.
Вечером я рассказал все бабушке.
— Да дал бы ему как следует! Внучек, ты больше руку ему не жми. Не друг он тобе, а скотина.
Я послушался бабушку напрямую: хотя все еще общался с Кешей, ходил с ним в курилку, перекидывался фразами, но каждый раз избегал рукопожатия.
А вообще на журфаке не было полных негодяев. Здесь все были вполне милы и склонны к добру. Но всех сближал инфантилизм. Инфантил может быть бесподобно гадок и при этом подчас необыкновенно тонок. Тот же Кеша — сын видного хирурга — на занятии по античной литературе, обернувшись, шикал: «Чего ржете, дебилы?», и внимал с благоговением, казавшимся мне, даже пошлым. Он превосходно играл на рояле, наученный этому сызмальства, и рассказывал о попугае, которого возил по клиникам, спасти не мог и закопал в саду.
Вечерами бабушка рассказывала о жизни. Первый муж поколачивал, свекровь заставляла торговать на станции яблоками, потом на той станции встретился случайно брат и увез обратно в деревню к отцу и матери, а там как раз молодой сосед Иван Иванович, с детства знакомый, овдовел: его жена выпила вместе с водой из ручья конский волос и умерла в мучениях. После гибели Ивана Ивановича на фронте бабушка осталась одна с тремя детьми, двумя мальчиками и девочкой. Попахала с бабами в поле, похоронила отца-рыбака и повезла себя, детей да свою мать в уральский городок Еткуль, к родным, где устроилась кастеляншей при гостинице.
На войне у Анны Алексеевны погибли все четыре брата, и у мужа ее Ивана Ивановича все четыре, он — пятый.
— Была бы я грамоте научена, большой начальницей была бы! Всех детей в люди вывела. Сыны мои — Генка, лесник главный по Уралу, отец твой — в Москве батюшка… Любят их люди! И меня пуще ихнего любили бы!
— А кем бы ты была?
— Я? А хоть писать могла бы эти… стихи. Слушай-ка! «Грустно мне, Сережка,/смерть одну хочу,/я ее, как с ложки,/сразу проглочу…»
— Любимая моя бабушка! Ты еще молодая!
— Молодая, — ядовито подсмеиваясь, она крутила головой. — Чо мелешь-то?
У нее ходили желваки под желтой кожей, серые глаза смотрели испытующе, коричневый гребень держал седые волосы.
Я излагал ей все, что было за день. Она была моим прибежищем, лесная, загадочная, и пускай отвечала малословно и совсем просто, я черпал силы, чтобы завтра снова войти под стеклянный купол.
— Они народ не любят, — сказал я ей.
— А народ их, — хехекнула.
— Наркотики принимают.
— Маркотики, это слыхала я, говорили… А ты чо?
— Нет, я никогда.
— А то будешь ниший дурак.
Слово «нищий» она произносила через «ш».
Однажды я принес домой газету со стихами, где в половину полосы была моя фотография.
— Ты чо ль? — изумилась бабушка. — Нагнись: чаво шепну…
Я послушно склонился.
— Будет у тобе ребенок, его в газету не сувай, обожди. Тока после пяти можно. Маленькие-то они от порчи не береженные.
После первой пятерки во время зимней сессии бабушка насильно всучила мне купюру из своей пенсии — деньги она хранила в тумбочке рядом с кроватью, завязанные в белом большом платке.
Она с такой мольбой вдавливала мне в руку эту бумажку, что я не мог отказаться.
Еще я читал вслух заданное: древнерусскую литературу, античную, рассказы на английском. Слушала в прострации. Хотя древнерусской
летописи с Кием, Щеком, Хоривом и сестрой их Лыбидью внимала оживленно, повернувшись ухом и часто моргая, как будто это был кусок прожитой лично ею и хорошо знакомой жизни.
Когда чтение кончалось, она садилась на кровати: ногами в шерстяных носках на ощупь влезала в тапки и брала молитвослов, толстую книжку, всю заляпанную пятнами от лекарств и еды. Она поглощала молитвы, непрестанно двигая желваками.
— Хоть бы смертушка пришла, — сказала как-то вновь.
Ничего не ответив, я пошел разогревать ужин (родители отсутствовали), и вдруг раздался грохот и звон. Вбежал в комнату.
— Чо это? Чо это? — капризно спрашивала бабушка.
Возле ее ног лежала упавшая люстра, тапки были засыпаны мелкими осколками.
С тех пор всякий раз, когда бабушка призывала смерть, я задорно перебивал и возражал. «А то промолчу — и впрямь помрет», — думал тревожно.
Вскоре после случая в курилке «Санта-Барбара» я стал свидетелем продолжения.
Все произошло на начальных ступенях внутри факультета, при входе, где как обычно было людно.
Мы сидели с ребятами, и лакали пиво.
Вдруг возникла та самая уборщица. Показала пальцем:
— Он!
На нас ринулась фигура в камуфляже: охранник журфака.
— В чем дело? — Кеша успел отставить бутылку.
— Врежь ему, Никитич! — закричала старуха. — Это он самый!
Мужик, схватив за ухо, дернул парня и потащил на улицу. Студенты смотрели, галдя между собой, никто не шелохнулся. Только мы, несколько одногруппников и уборщица, выскочили следом.
Мужик, отпустив ухо, тряс Кешу сзади за светло-сиреневый свитер:
— Больно, говоришь, падаль? Ты чего рабочему человеку грубишь?
— Да не буду я… — слабо пропел Кеша.
— Н-н-на! — резиновый сапог отвесил пинка, и студент отлетел с каменного крыльца вниз, в кусты, на землю.
— Мало? — мужик крутанулся к нам. От него пахло луком. Через месяц при мне на том же крыльце он добродушно просвещал профессора русской литературы Татаринову:
— Лук свой! На подоконнике сажаю… Мне цветы не нужны, их не съешь…
Она ахала и кокетливо поправляла шляпку.
Он всегда был в одном и том же: камуфляжные штаны и куртка, под курткой черная майка, на ногах резиновые сапоги.
Ознакомительная версия.