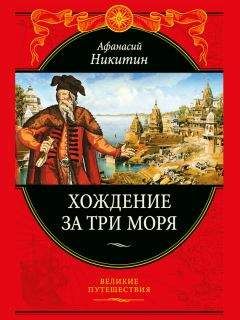У ребят из одной компании случился магнитофон, они крутили его, закутав в газеты. «Включи погромче!» — кричали нм, и ребята включали. Потом перегоняли пленку и врубали снова. Песни были лихие, и запомнились особенно Повторы, например: «Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды…», или: «Смерть самых лучших выбирает…», или: «Я дрожал и усиливал ложь…»: была в певце задиристость и понимание ее бесполезности, наскок перекрывался печалью, но это были песни нашего времени, тем более они помогали ожидать встречу с искусством.
Помню, что последней пыткой было то, когда как раз перед нами отсекли хвост очередной порции, и именно тогда подъехало враз пять или шесть делегаций. Мы их пропускали. Прошла, смеясь, толпа негров, видно, — жара была им по душе, но и мы — белые люди — постепенно чернели под полуденным солнцем. Наконец запустили и нас. Внутри было прохладно, сразу как и не было этой египетской жары, говорили негромко, без толкотни брали дорогие билеты, и уже не рвались внутрь, ведь чудо было рядом и надо было набираться святости.
К Джоконде вел узкий коридор, выгороженный барьерами. Коридор был углом. В центре угла, на метр выше голов, была картина. К ней шли, вставая на цыпочки или выглядывая сбоку, от нее уходили пятясь, лицом к ней, пока она не закрывалась стеной. Останавливаться запрещали, за барьерами стояли дружинники и милиция, они строго шептали: «Плотнее! Не задерживайтесь, вы видели, какая очередь» и т. п. Мысли путались, в голову лезло прочитанное об этой картине, торопливо думалось, что красный бархат не подходит к раме, что стекло бликует, да кто бы ее утащил, если бы была не под стеклом, главная досада была та, что только-только находилась точка для взгляда, только казалось, что она глядит именно на тебя, как мужской энергичный шепот в самое ухо страгивал с места. Нет, это, конечно, было не свидание. «Перед иконами, — говорил русский писатель Иосиф Волоколамский, — следует единствовать и безмолвствовать». А тут? Красный бархат, обложивший стекло, казался траурным, улыбка Моны Лизы усталой, даже злой, но все же картины хватало на всех: я видел, что эта женщина улыбнулась понимающе: но уже совсем уходя, я еще поймал ее взгляд — он был насмешлив.
Мы вышли и долго жмурились на свету. Ребята, вышедшие прежде, включили магнитофон, и он, побывавший в прохладе, брал пуще прежнего: «Затопи ты мне баню по-белому, я от белого света отвык. Угорю я, и мне, угорелому, пар горячий развяжет язык…», с этой песней они скрылись, и мы остались одни на белом, жарком асфальте. Следовало бы побыть одному после виденного, но ведь как у нас — если давно не видались, да встретились, да столько страдали, как тут расстанешься. Было странное ощущение, что город брошен, Москва пуста, только сумасшедшие машины и автобусы, готовые взорваться, добавляют в раскаленный желтый воздух синего дыма. Мы шли по мягкому асфальту, уж не чая спасения, однако в стеклянной забегаловке к нам бодро подскочили, предлагая выбрать и холодное, и горячее… Потом, когда жара перетерпелась, наступил вечер, решили не расставаться. Поехали в какой-то дом каких-то внуков знаменитого дедушки, добавили, стали слушать записи церковных песнопений, но невнимательно, откуда-то взялись гитара, женщина за ней, я сразу в нее влюбился, в женщину, конечно, а не в гитару, но и гитара была хороша своими звуками: «Мой караван шагал через пустыню…» или: «Все своевременно, все своевременно» (дальше было, кажется, что женские волосы пахнут дождем)…
Потом песнопения сняли с проигрывателя, пластинку с ними положили на самый край накрытого стола, и когда кто-то тянулся к общей тарелке, то задел пластинку, и она упала. Но уже гремела другая музыка. Я захотел вымыть руки и вообще умыться, пошел в ванную, но там уже целовались…
… Сейчас очередь была поменьше, двигалась побойчее. Машин «скорой помощи» не было, вдобавок для контраста пошел холодный дождь, очередь расцвела зонтиками. Спереди, сзади и сбоку меня теснились зонтики. Психологически сложно было попроситься под какой-нибудь, вот и терпел сливание струй на себя со всех. Воспоминание о Джоконде было быстрее, чем если бы рассказывать о ней. Миновали угол, вышли на финишную прямую. Под зонтиками шел разговор о Зрачкове. Говорили о картине, которую у Зрачкова торгует один американец. Американец этот не искусствовед, но любитель и, наживаясь на каких-то машинах, для души скупает картины, у него большая коллекция, именно к нему якобы попадают увезенные из Европы картины, но все это слухи, кто видел? И вот этот бизнесмен хочет купить у Зрачкова именно ту картину, которую Зрачков не уступает. Он сказал: любую, но не эту.
«Портрет любовницы!» — утверждали две девицы: одна в широченных брюках, будто на каждой ноге было по юбке, другая в брюках в обжимку, но у обеих на шее внесло по лезвию от безопасной бритвы. Ну и вот, якобы бизнес» мен и художник уперлись лоб в лоб, и никто ни в какую.
Конечно, именно эту картину отыскивала вначале простодушная толпа. Это был портрет женщины, закутанной в желтую шаль, глядящей немного выше взглядов на нее, женщина, казалось, зябла, подвитые волосы держались атласной лентой, и вся женщина была из прошлого века, когда бы не глаза, подведенные по новой моде, когда и глаз-то не видно, душа спрятана, да еще валялись вокруг колеса магнитофонных лент. Непонятно было — измучен или загадочен взгляд, что было — бессонная ночь или событие? Может быть, эта загадка и пленила бизнесмена, который оказался не выдумкой, а живьем стоял у картины, говорил громко, смеялся, и какой-то знаток английского перевел, что господин Стивенс (так его называло его окружение) заявляет, что если Зрачков устоит перед ста тысячами долларов, то он, американец, станет советским.
Выставка напоминала читанное о скандальных выставках импрессионистов. Но читать — одно, да и публика там экспансивная, французская, а наш народ сдержанный. Конечно, Стивенс добавил страстей. Почему он вцепился в этот портрет? Другие были не хуже. Может, он был дорог художнику? Дотошная толпа находила, что в этой женщине нет сходства с портретом жены, висевшим неподалеку. Шумно было у картин на исторические темы, картины эти и были как раз основой выставки. Около них была такая толкотня, что радовало только одно — никто не велел скорее уходить, каждый мучился, сколько хотел. Тут кто плевался, кто плевал в того, кто плевался, но многие молчали, вглядываясь. И то сказать — сумел художник царапнуть нервы:
— княгиня Евпраксия с маленьким сыном бросалась из высокого окна, а внизу, на камнях рязанского кремля, лежал убитый князь Дмитрий:
— последователь Чингисхана, Мамай, на коне въезжал в Успенский Владимирский собор:
— с колоколен сволакивали колокол, назначая его в переплавку, другой колокол эпоху спустя везли в ссылку:
— там покорные люди поднимали тесаные камни на леса будущего храма, здесь те же люди, спустя века, закладывали под этот храм заряды:
— Петр Первый склонялся к стеклянной банке, в которой была заспиртована женская кудрявая голова:
— он же будил маленького наследника Алексея, вручая ему саблю и заставляя ссечь голову стрелецкому сыну, мальчишке таких же лет, — Иван Грозный шел за телегой убитого им сына…
… Было, было на что посмотреть.
В нескольких местах вслух читали затрепанные книги отзывов. Записи были двоякие: одни объявляли Зрачкова гением, другие — бездарностью. Но и те и другие сходились в одном — мы плохо знаем свою историю, Зрачков в силу своих возможностей заполнил пустоту исторического чувства. Чувство истории есть сравнение своего времени с временами минувшими, сравнение силы своей духовности с духовностью предков, как объясняет Пушкин: «… люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения».
И еще декада прошла.
Выставка Зрачкова закрылась, я выждал два дня и поехал в музей. Прошел свободно. Картины были сняты со стен, только одна, та самая, все еще висела и, одинокая на большой стене, где болтались бельевые веревки, казалась странной. В зале было много людей — телевидение сматывало свои кабели, у стола с табличками «Худфонд» и «Салон-экспорт» теснились смотрители залов, художники, но что главное — и американец был тут. Через переводчиц возбужденно он просил Зрачкова назначить сумму за портрет. Свои убеждали Зрачкова вполголоса уступить.
В следующую минуту произошло то, о чем через полдня заговорили всюду — Зрачков прошагал к портрету, снял его с петель, одна петля застряла, он дернул, оборвал шнур и… протянул портрет Стивенсу, сказав громко:
— Я дарю его вам. Дайте фломастер! — Перевернул портрет, написал несколько слов и велел рабочим упаковать портрет.
Что и говорить — жест был не из последних. Немножко была немая сцена. Особенно хорошо сыграл ее американец, заговоривший после столбняка по-русски: