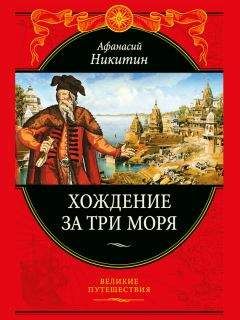В зале засмеялись.
— … Он прав, никакой я не писатель. Какие мы писатели? — Это опять было бестактно: нельзя говорить за всех, можно только за себя. Я торопливо кинулся объяснять: — Он нрав, потому что язык, на котором я пишу, — русский, а не цыганский и не татарский… — В зале зашевелились, представитель из района кашлянул, вглядевшись, я узрел в зале и татар, и цыган. Снова я стал карабкаться из самим же вырытой ямы: — Ничего плохого, кроме хорошего, я не хочу сказать ни об одной национальности, но русский язык — великий язык, это самое главное, что есть у нас, смотрите, наш Пушкин, он родной и неграм, и всем.
— И французам, — подсказали из президиума.
Я даже не посмел обидеться за подсказку — косноязычие владело мною. Мешал, ох мешал мне мой собственный голос, который только что перед этим оглушил меня. Зачем я стал называть святые имена, но раз уж начал, раз уж начал, тащил ношу дальше:
— На русском писали Достоевский и Толстой, и какая ж нужна высокая душа и мера любви к отечеству, чтобы отважиться писать на русском языке?..
Вряд ли были нужны мои слова людям из зала, а сзади довольно громко заметили: «Чего ж тогда Сам-то полез писать?» Нет, не мог я говорить, но должен был, и, поймавшись, как в детстве, за мамину руку, я поймался за материнские рассказы и прочел несколько. Прочел и те два, которые не были переданы по радио, на том и закончил свое выступление.
Нас благодарили, приглашали еще приезжать. Сфотографировали с группой читателей.
Вечер кончился, мы вышли. Вверху висел безгласный «колокольчик».
Сели в машину, но поехали не обратно, а к рыбакам. И совершенно случайно оказалось, что над рыбацким столом натянут брезентовый навес, что случайно в этот день в сети попал осетр, что стол случайно застелен скатертью, и пили в этот день рыбаки не из стаканов, а из рюмок. Случайно вскоре и рыбаков не оказалось за нашим столом, а только мы да представитель с председателем да хозяйничала женщина, вся закутанная от комаров. Я запил горечь двумя порциями и пошел просвежиться. И как раз набрел на рыбаков. Они разложили маленький огонь от комаров, вывалили на газету разваренную рыбу. По кругу гулял родимый граненый. Говорили они, употребляя в десятках вариантов одно и то же слово. Меня они застеснялись, но я употребил еще один вариант этого же слова и стал как бы «и свой. И все же это было не го, о чем мечталось. Я вернулся под брезент, взял с белой скатерти бутылку, объяснив зачем. «Сегодня нм можно», — разрешил председатель. Обо мне же один из собратьев ехидно заметил, что я пошел в народ. Впрочем, собратьям без меня было лучше. Как, впрочем, и рыбакам, которые на разговор со мной не рассчитывали.
Но все равно, посидели хорошо. Успели выяснить, что матерные слова русскому языку навязаны, их корни в монголо-татарском нашествии, а до этого мы не ругались, не из-за чего было. И вообще, что это такое, говорили мы, до нашествия не ругались, вроде за ругань не виноваты, до Петра Первого не курили, не пили, тоже вроде не наша вина, но сами-то мы чего, чего мы сами-то думаем своей головой? Этак завтра чего-нибудь с нами вытворят, и опять будем не виноваты? Что ж это такое за жизнь, мать-перемать, говорили мы, прикуривая от костра и не давая отдыха стакану, это, значит, на нас черти отыгрались, а мы терпим, нет, ребята, это не ремесло, предел кончен, этак жить — только врагам на радость.
Пойду купаться, решил я. Рыбаки говорили снова о своем, я спустился к воде.
Вятка текла, светло-серая под дождем. Комары жрали непрерывно, пили кровь.
Я разделся, еще нарочно подержал себя в виде подарка комарам и нырнул.
Внутри воды показалось светлее, чем на берегу. Течение реки ощутилось — мощное, ровное. Да, если мои предки жили у такой реки столетиями, они невольно стали походить на реку — спокойную со стороны, но напряженную, сильную, неостановимую.
Я вспомнил, что до сих пор Вятка, пожалуй, единственная река, не перегороженная плотиной электростанций, ушел глубже ко дну, достал его — обломки резного дерева попались под руку, зрение памяти показало мне деревню у реки, девушку по колено в воде, деревянных и глиняных божков всех времен года, всех обычаев и ожиданий. Голого ребенка старшие тащили купаться, с промысла шла к деревне долбленая лодка, и я, выныривая, боялся удариться о ее дно…
На берегу меня ждали. Рыбаки уже ушли, ушла и женщина с ними. Но мы еще побыли, взбодрили забытый рыбаками костерок, старшие поехидничали надо мной, что я оторвался от интеллигенции, стали учить, что не надо приседать перед читателем, надо вести его за собой. Попробовали и запеть, но на общую песню не набрели, решили уезжать. Загасили костер.
Шофер спал. Был ли он на вечере в клубе, спросил я его, нет, конечно, не был, он этих вечеров перевидал страшенное количество.
Проехали напоследок по деревне. У правления простились с хозяевами. Шофер залил в радиатор воды. Было еще не совсем темно.
Со столба, стоящего у крыльца, слышался громкий голос. Здесь тоже висел «колокольчик» — усилитель радио.
Читали наряд на завтра.
Знал бы, не связывался — одни только подписи собирал целую неделю. Бегало от меня музейное начальство, ох «не любило, чтоб кто-то заглядывал в их кладовые. Но что делать, и меня можно было понять — я был связан обещанием написать текст для альбома художника Костромина, и нужно было видеть его картины. А они были в запасниках, и вот я добывал разрешение войти туда. Только я получил последнюю подпись, только начал договариваться с главным хранителем о ближайшем числе, как снова пришлось ждать — всех сотрудников временно переводили на обслуживание выставки художника Зрачкова.
В издательстве меня торопили, предлагая сделать подтекстовки по контролькам — фотографиям, помещаемым в альбоме, но фото — одно, подлинник — совсем другое, я просил еще подождать. Хранитель ничем помочь не мог. «Зрачков, сами понимаете», — сказал он.
Да, личность была не из простых. Этот Зрачков сумел поставить себя так, что им интересовались непрерывно. В таланте тут было дело или в чем-то другом, как знать, только разговоров было много. Мнение братьев художников о Зрачкове было неважное, помню, и Костромин отмахивался, не поддерживая разговор о Зрачкове. Художники ругали Зрачкова за плохой рисунок, за насилие над цветом. Но только разве скажет объективно художник о художнике, надо смотреть самому. Ругать легче всего.
Но привкус ажиотажа был неприятен, казался специальным, я решил не ходить, переждать выставку, а тогда уж со своей бумажкой в запасники. Договорившись с хранителем позвонить ему, я простился, но пошел на улицу не через служебный ход, а через залы, где заканчивали развешивать полотна и где временами стремительно проносился сам Зрачков.
Полотна были на разные темы: исторические и современные, энергия скорости (или торопливость?) ощущалась в бегущих, оборванных линиях. Развешивающие повторяли утреннюю шутку художника: «Картину легко написать, трудно ее повесить». Особенно говорили о каком-то портрете, которому художник никак не находил места.
На бетонных ступенях музея толпились люди, особенно жующий молодняк, вспыхивали просьбы о билетах. Все это было неприятно, я вспомнил, как давно ли в этих залах были картины Пластова, их теплоту, сердечность и боль. Там не было таких вот девиц и их спутников, а может, тут были одни девицы или одни юноши, все были одинаковы, как из инкубатора, все волосатые, безгрудые, беззадые, все клейменные нерусскими наклейками.
Выставка Зрачкова не открывалась еще дней десять, и это тоже походило на специальное нагнетание страстей. Номер телефона музея был занят всегда. Наконец ленточка была перерезана, толпа хлынула. То один, то другой знакомый спрашивали меня, был ли я на выставке. Я отвечал с досадой: нет. А ты знаешь, говорили мне, сходи, интересно. Другие плевались, третьи говорили о порче вкуса, и вот — как понять самого себя? — через неделю я стоял в хвосте очереди. По правде говоря, я сначала сунулся со своей бумажкой с черного хода, но и там стоял пост, требовавший специальные пропуска. Надо было понастойчивей, но я махнул рукой и стал ждать. Да и плевать, думал я, сколько я видел людей, идущих всюду без очереди, а что толку? Чего они добились? Разве в этом удача схватить кусок раньше других. Давно ли за это ложкой били по лбу.
Ждал, вспоминая другое лето, вот уж тогда очередь была так очередь, вся Москва с ума сошла, Музей изобразительных искусств очередь обвивала кольцами. Занимали ее с вечера, мне как раз позвонили знакомые, они стояли всю ночь. Я тут же помчался, от волнения проехал станцию «Кропоткинскую», почему-то не вернулся, а выскочил вверх на следующей и бежал прямо на красный свет, чуть не попадая под машины. Можно было не гнать, потому что еще стояли часов шесть: густо стали подваливать автобусы «Интуриста», мы злились на иностранцев: как будто не могли они побывать в Лувре, как будто специально надо было ехать в Москву, чтобы увидеть Мону Лизу. Да, в то лето Леонардо да Винчи, могучий дух его, оставшийся на земле, гостил у нас, и, приди он не в жару, а в мороз, очередь была бы не меньше. А уж и жара была, то и дело падали в обморок, и милиционеры по рации вызывали «скорую помощь», К обеду, особенно в голове очереди, стали дежурить медицинские автобусы, видимо, ждавшие случаев массового психоза: легковых машин не хватало. Это оттого, что в конце очереди негде было спрятаться, она входила в огороженный проход, а до того бегали постоять в тени.