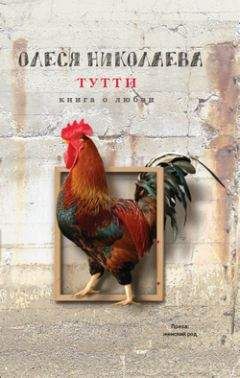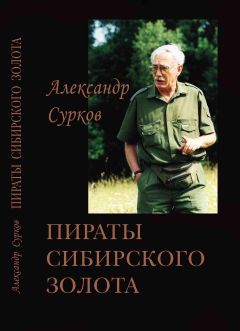Попонки ей покупают со стразами, косметику собачью, духи, чушь всякую…
В конце концов, я же не одинокая женщина – у меня есть кого любить, кого лелеять, кого целовать и к сердцу прижимать, – у меня муж, трое детей, шестеро внуков, наконец. Бери хоть всех и играй, целуй, носись как с писаной торбой!»
Так я сказала моему мужу, а он вздохнул: ну ладно. Раз тебе тяжело, Тутти мы отдадим. То есть идея была моя. Это я его заставила: спроси, кому собачка нужна. Отдай да отдай. Злая баба Бабариха. Он позвонил сыночку. Тот сказал: да. Я с ним уже договорилась и что теперь – все это отменять, переиначивать? Они подумают – всё у нее капризы – то это ей подай, то – то. Сегодня она хочет себе новое корыто, а завтра потребует сделать ее владычицей морскою. Не угодишь этакой. Нет, раз уж так вышло, надо собаку отдать.
Я перевернулась на другой бок. Но какая же она хорошенькая, тепленькая, пушистая! Подушечки у нее на пальцах то розовенькие, то черные. Нежные, не успели еще задубеть. И – лает, если приходит в дом кто-то незнакомый, чужой. Сторожит. Может, действительно потом нас от какой-нибудь беды спасет, защитит. Нет, не отдам я ее, не отдам! Вон – даже в житиях святых сколько прекрасных рассказов о животных! Как вороны прилетали кормить Ильюпророка, когда он прятался в пещере, – приносили ему, по слову Господню, хлеб и мясо. Слышат, значит, они, эти зверюшки, глас Божий и повинуются ему уж получше, чем мы.
Душно мне стало. Тошно. Всюду эти чахлые горошки мерещатся, мертвая резеда. И – призрака зловещий шаг. Встала, распахнула окно, зажгла свет. Открыла наугад «Мучение любви»: «Одно должна знать душа, что только в Боге ее покой и предел исканий. Поэтому она должна выйти в совершенную свободу не только от страстей, но и от своих чувств, в свободу от всего временного и войти в Бога».
Вот оно, подумала я. Свобода от своих чувств! Зажгла свечу, почитала Псалтырь. Вернувшись в постель, глянула на часы: четыре утра.
Во имя Господа, сказала себе я, надо отрешиться от всех земных чувств, от всех привязанностей, а не то что от собаки, которую я два месяца назад и знать не знала. Во имя Бога нужно уметь пожертвовать всем. Погружу завтра Тутти в машину и отдам.
Свернулась калачиком, приготовившись сразу уснуть. Да при чем тут жертва! – вдруг полыхнуло во мне. – Какое лукавство! Тебе подарил собачку твой друг, милостью Божией архиерей, благодетель твой, молитвенник, заступник пред Богом! Подарил, чтобы она радовала тебе глаз, веселила сердце тебе. Надо было в простоте сердца, со смирением и любовью принять этот дар. Принять как путь жизни. А ты так изуверски все это извратила, поддалась минутной немощи – мол, надо отказаться, раз собака требует от тебя труда. А надо было – лишь чуть-чуть перетерпеть, подождать. Она сейчас уже понимает, для чего ты ее выносишь во двор. А через два месяца начнет проситься, а там уж настанет весна, распустятся одуванчики, расцветет сирень, жасмин глянет любопытным глазком, так ты и домой ее не загонишь – будет на травке валяться, ворон пугать. Оставь себе это утешение, посмотри, как она любит тебя, с каким ликованием встречает по утрам, лапками обнимает за шею… Не отдавай! Недаром ведь праведный Ной не только семью свою спрятал в ковчег, но и зверей, птиц и даже гадов – всякой твари по паре, мужского пола и женского, чтобы род их не прекратился, ибо именно так заповедал ему Господь.
Я аж вскочила с постели. А зачем я тогда все это затеяла? Зачем сыночка взбудоражила – завтра он меня будет ждать. Что он обо мне подумает, какой пример я ему подаю – то этак решила, то так… И потом – отец Иустин – тоже ведь человек духовный, наместник монастыря. Что-то же значит его благословение! Нет, повезу, отдам.
Даже помолилась:
– Господи, если Тебе угодно, сделай так, чтобы я ее завтра не довезла.
И ужаснулась собственному безумию. Во-первых, нашла, о чем Промыслителя просить! Какой позор! Ну не хочешь – не вези. А во-вторых, что значит: «чтобы не довезла»? Что – чтобы машина не завелась или чтобы я, не приведи Господи, в аварию попала, или упала, выходя из дома, на скользкой обледенелой лестнице, сломала руку, ногу? Вот уж точно бы тогда – не довезла. Глупость какая, кощунство!
Глянула на часы – половина шестого. Завтра мне на работу, а физиономия у меня заплаканная, опухшая от слез, глаза красные, сама страшная, больная, невменяемая, в голове – туман…
Опять легла, а перед глазами – Тутти. Но, как это у Анненского – «она… да только с рожками, с трясучей головой»… Нет, это уж точно пристрастие – так прикипеть к ней сердцем, это пунктик, бзик. А коли так, то и подавно надобно с ней расставаться. Или – все-таки нет? У меня – что, так много любви, чтобы от нее так вот запросто отмахиваться, отказываться? Как же можно оттолкнуть от себя любящее, преданное существо? Да уж лучше – лечь ничком и пролежать без движения весь день, пусть все как-то само решится. Занятия я, конечно же, прогуляю: больна, заболела я! И правда – куда я с этим лицом и туманом поеду по гололеду сквозь пробки? А если Нике и в самом деле собака нужна, пусть сам за ней ко мне и приезжает. А если не приедет, то, значит, и не судьба.
Успокоенная, закрыла глаза, тут даже святой мученик Христофор мне вдруг пригрезился: его на фреске Успенского собора в Свияжске изобразили с собачьей головой. И в житии его у Дмитрия Ростовского так и сказано: будто бы он имел песью голову. Наместник Свияжского монастыря рассказывал, что есть две версии этой «песьей» головы. Первая – что он был необыкновенно хорош собой и искусителен для лиц противоположного пола, и потому молил Господа избавить его от такового искушения. И Господь услышал его мольбы, превратив голову его в собачью. А вторая версия, что он был из племени людоедов и эта нечеловеческая его голова, когда уже он принял святое Крещение, осталась ему напоминанием о той дикой его природе, которую ему нужно в христианском подвиге преобразить. Говорят, иконы святого мученика Христофора с этой песьей головой были и в Ярославле, и в Новгороде, и в Ростове, да там, на всякий случай, чтобы христиане не соблазнялись, особые ревнители благочестия эти песьи головы замазали и пририсовали ему обычную, человеческую, как у всех. И вот это всегда очень смущает меня в таких «ревнителях», которые, порой пренебрегая символическим смыслом и наводя свою цензуру, хотят выставить себя благочестивее церковного предания, гуманнее Христа… Я стала задремывать, и святой мученик Христофор, окутанный плотной дымкой, тихо и печально покачивал своей головой – то человеческой, то собачьей, да тут грянул будильник.
Я вскочила, позвонила в институт, сказалась больной. И тут с тоской подумала: да ведь когда так своевольно нарушаешь ход жизни, можешь и что-то главное в ней зацепить, сломать! Нет, надо уж идти, как положено, и туда, куда тебя направляет Промыслитель, расставляя на пути указующие знаки обстоятельств и долженствований. Ну ладно – в институт я не поеду, ничего страшного, но сыночек-то мой ждет меня в полдень. Рассчитывает. Ведь я уже и предупредить его не смогу – у него как раз до половины двенадцатого служба в храме. Надо ехать. А вдруг собака не выдержит дороги? Будет у меня под ногами путаться, педали нажимать, врежемся мы с ней в столб, или прыгнет мне на руки, начнет пальцы кусать, мешать руль крутить, скатимся мы с ней по обмороженной дороге в кювет.
Встала, выпила кофе, постелила на заднее сиденье большое полотенце, которым обычно вытирала Туттины лапки, собрала в мешок ее «наследство» – коврик, миску, корм, игрушки – щеночка с кнопкой, прыгающую пчелу, свистящий паровозик, прицепила к ошейнику поводок и посадила ее на заднее сиденье. Даже и игрушечку с ней рядом положила – котика. Она послушно улеглась. Я вырулила из двора с тайной надеждой, что она начнет так скулить и метаться по машине, что я не смогу ехать и вернусь. Но она лежала покорно. Я выехала на шоссе. «А ведь она прекрасно переносит дорогу! – проплыло у меня в голове. – Так в чем же проблема? Я могла бы ее брать с собой в Москву… Да я и в Свято-Троицкий монастырь могу с ней поехать и куда угодно. И не мешать она будет мне, а наоборот, во всем помогать. Вон святой Герасим Иорданский возил воду сначала на осле. Потом у его порога оказался раненый лев, и он его исцелил. И этот лев стал жить при преподобном Герасиме. Но тут пропал осел, которого тайком увели проходившие мимо купцы. Но преподобный Герасим подумал на льва, что это он, повинуясь лютой своей природе, сожрал осла. И сказал: раз так, теперь ты будешь мне воду возить. И лев беспрекословно таскал бочки с водой на спине. Но как-то раз он вдруг учуял, что где-то невдалеке остановились на ночлег эти воры-купцы и с ними – осел. Он помчался на их стоянку, всех поразогнал и привел осла к старцу, тем самым доказывая свою полную невиновность. Так что иные звери бывают поблагороднее людей. Во всяком случае, они прекрасно чувствуют расположение их души и порой характером уподобляются своему хозяину: у святых и звери «святые». У преподобного Серафима Саровского – медведь, у преподобного Герасима Иорданского – лев и осел. Вот сейчас доберусь до ближайшего разворота и вернусь преспокойно домой». Дала мигалку на разворот, и тут меня как ударило – а если что, если все-таки необоримые сложности с ней возникнут, я же позже не смогу ее отдать – после четырех-то месяцев! Она окончательно ко мне привыкнет как к хозяйке, и это уж совсем будет подло: или сейчас, или никогда! И – выключила мигалку, поменяла ряд, проехала мимо.