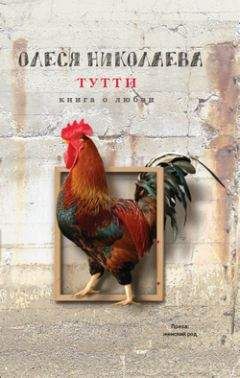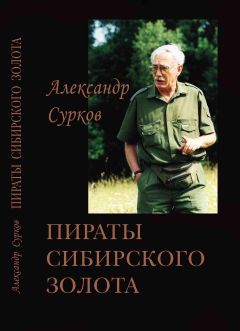А тут еще приехал из своего далекого Свято-Троицкого монастыря старинный друг мой – игумен Иустин, тоже, как и наш владыка, человек для моей жизни чрезвычайно важный. А у меня дома – вонища, на улице холод собачий, и не проветришь как следует: дом тут же вымерзает, я уж не говорю о моем гибнущем пальмовом саде. И бегает эта собачонка на кривых ножках, тявкает, воистину «всуе мятется». То стулья грызет, то фанеру от книжного шкафа отколупывает, то по всему дому носится с игрушкой-песиком, которому на живот если нажмешь, он «тяв-тяв-тяв» делает, а то на задние лапы встает, упирается передними мне в колени и, еду выпрашивая, скулит, требуя, лает.
– Что это за диво такое? – спрашивает отец Иустин. – Откуда?
А мы как раз о языческих предрассудках в православии завели разговор, о лжестарцах, которые развелись во множестве, о превратностях человеческой воли, которая так измучила человека своей неопределенностью и двусмысленностью, что он только и ищет, какому бы начальнику ее всучить, чтобы он ею управлял, распоряжался, нес ответственность и покрывал ошибки. О магизме заговорили, который приписывают иным священническим словам и благословениям, об иных иереях, которые и сами потворствуют такому «магическому» отношению к себе – ну вроде вот этого: «Если слово мое не исполнишь, болеть будешь». Так один иеродиакон «благословил» жену священника – мать девятерых детей, «бросить все и уйти в монастырь». А меньшему ребенку только-только три года исполнилось. И эта бедная женщина совсем пришла в духовное расстройство.
Словом, разговор у нас с отцом Иустином и важный, и увлекательный. И собеседник мой – человек, от которого сердце радуется. А тут эта собака мельтешит.
– Да владыка мне ее подарил, – отвечаю я ему. – Под видом овчарки. Но у овчарки – вон какая шерсть, ей любая зима нипочем, а эта совсем на холоде изнемогает. Вот дома и сидит целыми днями.
– Слушай, так зачем она тебе? – спрашивает отец Иустин. – Ты ведь теперь и к нам в Свято-Троицкий монастырь не сможешь из-за нее приехать, и дом твой в Троицке заброшенный придет в полный упадок. И на улице такая собака жить не может. Нет, нужно тебе ее кому-нибудь отдать, пока ей не исполнилось четыре месяца. Говорят, после четырех месяцев это уже жестоко, ибо создает для собак проблемы. А пока – можно.
– Так владыка же подарил! Может, так надо, чтобы она у нас жила. Может, спасет она от чего-нибудь, защитит, выручит. Для чего-то ведь в промыслительном плане она нужна!
– Да брось ты! – засмеялся отец Иустин. – Только что ведь говорили о православном магизме – и ты туда же! Да нет тут никакого мистического смысла! Владыка тебе ее подарил, потому что ему самому некуда было ее девать. Наверное, он уже всю епархию свою такими собачками снабдил, а этот щенок у него бесхозным остался. Так что отдай в хорошие руки и живи спокойно. Пусть твой муж своих прихожан поспрашивает – кто-то и откликнется.
На следующий день муж мой и говорит: – Ну все. Пристроил я Тутти. Сыночек наш согласился ее взять. В свои загородные мастерские, где они деревянные храмы и часовни строят, так им там как раз собачка нужна. На днях он ее заберет. Так что недолго тебе осталось терпеть.
А Тутти как будто все поняла, ушки навострила, головку на бок склонила, смотрит так в глаза мне изучающее, взволнованно, испуганно, но и заботливо, с любовью, словно испытывает. Сижу я в кресле, а она мне к ногам игрушечки свои приносит и кладет – на, поиграй. Щеночка с кнопкой на животе «тяв-тяв», мишку своего плюшевого, паровозик резиновый, пчелку пластмассовую, которую, если потянешь за веревочку, она по земле скачет. Внуков моих игрушки. Коврик свой, на котором я ее спать укладываю, тоже принесла. В наше отсутствие спит она, конечно, на диване, в крайнем случае – в кресле, а так – делает вид, что он и есть самая постель ее. Принесла все, перевернулась на спинку, лапки вверх, животик розовенький, я поглаживаю, она мне руки лижет, целует, осторожненько так покусывает, не то что раньше, когда она и когтями царапала, и кусала почти до крови – все руки и коленки у меня в царапинах, кровоподтеках, я их залепляла бактерицидными пластырями. А тут лежит передо мной – смиренная, ласковая, шерстка нежная, на головке золотится, на боках – серебрится, словно «смотри, говорит, вот она я – собачка твоя, Тутти. Неужели ты меня кому-то отдашь?», беспомощная, доверчивая, сдается на милость победителя. Мой муж говорит:
– Она тебя за мамку свою держит. Ты в другую комнату выходишь – она тебя у дверей ждет, караулит, а меня – побаивается.
На следующий день зашел ко мне мой старинный друг поэт Петя, приехавший на несколько дней в Дом творчества писателей, чтобы поработать, доделать книгу.
Вообще он человек старомодный и, когда приходит, сразу принимается рассуждать о возвышенном – о литературе, о философии, читать стихи. Я всегда чувствую при нем себя как бы пристыженной за то, что я так «отщетила» душу свою в житейских попечениях, а он сохранил «дух волен и высок». Вот и теперь, едва войдя, он заговорил о высоком – о Пушкине, о Лермонтове.
– Ты знаешь, сколько раз он свою «Тамань» переписывал? Ты «Тамань» давно читала? Вот тебе задание – обязательно в ближайшие дни перечитай. Он тридцать раз ее переписывал, пока не добился совершенства! А вот это – я просто с ума схожу от восторга, от этой гармонии:
Прочь, прочь, слеза позорная,
Кипи, душа моя!
Твоя измена черная
Понятна мне, змея!
Я знаю, чем, утешенный,
По звонкой мостовой
Вчера скакал, как бешеный,
Татарин молодой.
Он перевел дыханье и развел руками от восторга.
– И ведь, знаешь, это добивается тонкой работой, кропотливой, упорной, потом, если угодно, а ощущение – такой простоты и естественности! Боже мой, что надо человеку, что ему надо? Всего-то – «чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло». Больно и светло – понимаешь? Ну, что скажешь?
Я увидела, что Тутти крутится на одном месте, примеривается, чтобы присесть. Схватила ее под мышку, напялила куртку, дутики:
– Ты куда? – заволновался Петя. Но я уже была на веранде.
Вернулась, вымыла Тутти лапки, села к Пете за стол.
Он все еще сидел, потрясенный только что прочитанным, и я постаралась соответствовать ему:
– У Анненского есть перекличка с этим стихотворением в «Квадратных окошках». Та же тема рокового соблазна, гибели. И – ритмика. Помнишь?
Молчи, воспоминание,
О грудь моя, не ной.
Она была желаннее
Мне тайной и луной…
– «А знаешь ли, что тут она?»
– «Возможно ль, столько лет?»
– «Гляди, фатой окутана…
Узнал ты узкий след?
Так страстно не разгадана,
В чадре живой, как дым,
Она на волнах ладана
Над куколем твоим».
– «Она… да только с рожками,
С трясучей бородой —
За чахлыми горошками,
За мертвой резедой».
– Нет, – сказал он. – Это все не то. Я люблю, чтоб было все проще, жестче. Чтобы – вообще как бы из ничего. Без рожек с горошками. Чтоб – больно и светло. И все. Я тут перечитывал Блока, и мне так захотелось у него поправить эпитет в стихотворении «Венеция». Мне кажется, он бы согласился. Вот смотри.
В тени дворцовой галереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой.
Всё спит – дворцы, каналы, люди,
Лишь призрака скользящий шаг,
Лишь голова на черном блюде
Глядит с тоской в окрестный мрак.
Так вот, я убрал бы это черное блюдо – и так понятно: ночь, мрак, а я бы сделал «на скользком блюде» – тут была бы вся шаткость, вся зыбкость существования. А «скользящий» шаг заменил бы – ну, нашел бы, чем его заменить. Можно хоть «шуршащий», хоть «летящий». Можно – «зловещий», а можно – «дрожащий». А можно и «неровный» – тогда эта ассоциация с «неровным часом» вылезет – знаешь, как говорят – «не ровен час»… Да и вообще тут-то как раз эпитет не столь важен: слово «призрак» все равно внимание на себя перетягивает, и какой там у него шаг – «неслышный» или «чуть слышный» или наоборот – «гремящий», как у Командора, это уже на твой вкус. Можно и так, и так. А тебе хочется иногда чужие стихи – подправить? Ну, классиков, я имею в виду. Мне хочется порой – я же, ты знаешь, эстет.
Тутти носилась вокруг стола, терзая плюшевого мишку, потом вдруг остановилась, принюхиваясь, я разгадала ее маневр. Вскочила, схватила, напялила на себя куртку, дутики, понеслась с ней на двор.
– Ты что? – крикнул Петя. – Куда? Собака твоя все-таки суетная, сколько от нее возни.
Вернулась, вымыла ей ножки, убрала кучу, выбросила на веранду в отведенный для этого ящик. Тутти от избытка жизни радостно понеслась по комнате и вдруг принялась вызывающе лаять, как только Петя, торжественно откинув голову назад и чуть прикрыв глаза, еще раз протяжно повторил: «Лишь при-зра-ка на-на – сколь-о-льзком блюю-де», словно дегустировал священную амброзию, нектар…
– А собачка эта тебе зачем? – вдруг, словно очнувшись, спросил он. – Милая, впрочем, живая такая дворняжечка.