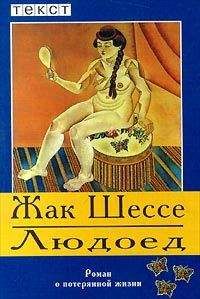Наступило 20 декабря — читатель вскоре поймет, почему я с такой точностью помню это число, хотя вообще у меня всегда была плохая память на даты. Но в этой я уверен, как и в том, что не забуду до самой смерти — я говорю это без иронии — ни единого из событий последующих дней. Тот день был ясный и тихий, природа как будто затаила дыхание в ожидании праздника. Снег озарял комнаты своей белизной, и в этом белом свете мысль моя работала с удивительной четкостью. Блаженный хмельной восторг не проходил. Он еще усилился к полудню: меня словно приподнимало над землей, бросало в трепет… Я заканчивал свою проповедь. К середине дня я был готов перечитать ее; за последние два часа я все острее, почти до изнеможения, ощущал, что мысль моя близилась к апогею, по мере того как продвигалась работа и все ослепительнее становилась белизна снежного света.
Итак, мне предстояло перечесть готовый текст. Обычно я принимаюсь за эту часть работы не без внутреннего беспокойства. Когда я перечитываю написанное мною, все кажется мне бессвязным, слабым, беспорядочным, и я просиживаю долгие часы, иногда ночи напролет, пытаясь воплотить свои мысли на бумаге. Но в этот день впервые жизни я перечел свои листки на одно дыхании; мне не понадобилось ничего менять, разве что внести несколько небольших поправок. Сделав это, я принялся перечитывать проповедь снова, на сей раз вслух, дабы убедиться, какое впечатление она произведет на собравшихся. Я с головой ушел в работу. Мне не сиделось, и я встал, продолжая читать громким, подрагивающим от возбуждения голосом. Я шагал взад и вперед по комнате, помню даже, что в какой-то момент, увлекшись, подкрепил свою речь ударами кулака по косяку оконной рамы, при этом я, поглощенный моей проповедью, даже не видел, что творилось за окном.
И вдруг я остановился, охваченный чувством необъяснимой тревоги; ощущение было особенно жутким оттого, что — я горечью осознал это — последние месяцы я прожил в безмятежном покое. Должно быть, так страдают — это я понимаю теперь — выздоравливающие, с ужасом чувствуя приближение рецидива, когда открывшаяся рана или затаившийся недуг вновь пронзают зловещей молнией боли. Прошло несколько секунд — или минут, теперь мне было страшно; страх сковал меня, лишил дара речи. Я стоял, остолбенев. Листки выпали у меня из рук, и в тот же миг я будто очнулся. Я вздрогнул, обнаружив, что переулок уже потонул в вечернем сумраке. Я обернулся, но вместо того, чтобы броситься в комнату, разрушить злые чары, приковавшие меня к окну, так и остался стоять, не в силах сделать и шагу, настолько потрясло меня то, что я увидел: в нескольких шагах от меня, на низком диванчике у стены сидела Женевьева; ее запрокинутое ко мне лицо, освещенное скудным светом, еще лившимся из окна, странно блестело и было очень бледно, приоткрытый рот, из которого не вырывалось ни звука, казался на нем черной трещиной, при виде которой острая жалость пронзила меня. Я заметил, что она вся дрожит. Страх отпустил меня. В какую-то долю секунды я понял, что Женевьева вошла в комнату, когда я в упоении читал мою проповедь, и одна только сила моих слов привела ее в такое состояние. Я зажег лампу, закрыл ставни, подобрал листки, которые выронил, когда на меня нашло помрачение, и сел рядом с ней на диванчик. Лампа прогнала грязно-белые вечерние отсветы, теплое сияние наполнило комнату, согревая нас. Женевьева, однако, все еще дрожала, ее колотил озноб… Мало-помалу она успокоилась, и некоторое время мы разговаривали так, будто ничего особенного не произошло.
То, что случилось потом, я едва могу описать — я хочу сказать, что, рассказывая об этом, испытываю мучительную неловкость с примесью ужаса, хотя помню все с пронзительной отчетливостью.
Девушка вдруг вскочила, словно распрямившаяся пружина, повернулась и стала передо мной; она беззвучно заплакала, и лицо ее исказилось страданием, которого я не мог постичь. Я встал, хотел подойти к ней, но ее взгляд остановил меня: так она не смотрела никогда, невидящие глаза были устремлены поверх меня, в стену, и она стояла, не в силах произнести ни слова, вся во власти своего смятения и темных сил, отторгавших ее от нее самой. Я тихонько позвал ее по имени, но она как будто не слышала меня. Наконец я решился подойти, шагнул к ней и взял ее за руку; мой безобидный жест, который она, должно быть, восприняла как попытку применить к ней силу, пленить ее, стал причиной страшной сцены, последовавшей за этим. Едва мои пальцы сомкнулись вокруг ее хрупкого запястья, как она с яростью вырвала руку и отскочила, выкрикивая какие-то невнятные слова, среди которых я разобрал только «преступно» и «рождественская проповедь». Когда я снова попытался подойти к ней, она закричала еще громче. И упала. Она потеряла сознание (еще раньше я заметил, как ужасно она побледнела). Колени ее бессильно подогнулись, и обмякшее тело рухнуло на пол, глухо стукнувшись об угол камина. Я кинулся к ней, чтобы предотвратить удар, но слишком поздно. Сказать по правде, все произошло с невероятной быстротой. Я поднял девушку и отнес ее на свою постель, чтобы перевязать: из длинной раны на лбу обильно текла кровь. Я приложил к ней носовой платок; когда я промывал рану, Женевьева открыла удивленные глаза. Краски понемногу возвращались в ее лицо; потом она, похоже, вспомнила происшедшую только что сцену и терзавшие ее страхи, потому что в ее взгляде появилось то же безумное выражение, которое я впервые увидел в нем, когда она стояла посреди комнаты. Она ничего не сказала, но глаза ее наполнились слезами. Я отодвинулся. Женевьева встала, по-прежнему не говоря ни слова, шагнула к двери и вышла из комнаты. Я услышал ее быстрые шаги на лестнице; хлопнула входная дверь. Что же сломалось сейчас? И отчего вдруг эта вспышка? Я хотел было кинуться вслед за Женевьевой, догнать ее, засыпать вопросами, но одумался: на улицах поселка было довольно людно в этот час, к тому же овладевшее молодой девушкой исступление пугало меня: я не мог заговорить с ней, не нарушив окончательно своего душевного равновесия. Ибо в этот вечер я со всей уверенностью понял: еще одного срыва я не вынесу, и я должен собраться с силами, чтобы противостоять катастрофам, грозившим обрушиться на наш покой и счастье. Я спустился вниз, запер двери и лег, даже не поужинав — только принял снотворное и почти тотчас провалился в тяжелый сон без сновидений.
Назавтра я полдня был занят разными встречами. Я наносил визиты, расточал слова утешения, но мысли о происшедшем вчера не оставляли меня. Меня уговорили остаться пообедать; казенно-благодушное настроение, царившее за такими трапезами, я всегда с трудом выносил, и в этот день мне стоило неимоверных усилий не швырнуть прибор в лицо моим хозяевам и не броситься под любым предлогом звонить Женевьеве. Помню, что разговор шел об армии, о ее необходимости, о плюсах и минусах армейской службы. Старший сын хозяина дома только что получил чин лейтенанта кавалерии; чуть не лопаясь от гордости, он превозносил свой драгунский полк. Его брат неуклюже подшучивал над ним. «В моторизованной армии… — повторял он. — В уважающей себя, а стало быть, моторизованной армии…» — и этот назойливый рефрен просто выводил меня из себя. Наконец все встали из-за стола. Я помчался домой.
Открывая дверь, я затрепетал от счастья: до меня донеслись последние такты экспромта Шуберта; я сам разучивал его ребенком и сотни раз слушал, как моя мать играла его для меня. Это была Женевьева. Она вошла, как вчера, поджидая меня, открыла старенькое пианино в кабинете… Музыка заиграла вновь. Каждая нота звучала в старом каменном доме гулко, с пронзительной отчетливостью, и это взволновало меня до глубины души. Мелодия лилась, грустная и чистая, это было аллегро, музыка плавная и невесомая, но исполненная острой тоски, будто композитор, зная, как мимолетны и недолговечны его творения, все же хотел, чтобы они проникли в душу, тронули ее, потрясли, быть может, глубже, чем какой-нибудь большой концерт.
Я вдруг увидел нашу гостиную, стопку нот на маленьком столике, свет, мягко падавший на плечи моей матери, увидел ее спину, чуть ссутулившуюся над клавишами, услышал ее ласковый голос; я знал, что сейчас мне придется в свою очередь сесть на круглый табурет и разучивать гаммы, пока не вернется с работы отец. Почему же я не смог после тех первых, счастливых лет моей жизни остаться веселым и открытым, как мои родители? Мой странный жребий отделил меня от всех, отгородил стеной, я возвысил себя над другими своей ученостью и поставил себя над ними судьей; а между тем мне бы больше простилось, живи я как те, от кого я всю жизнь бежал. Я стал пастором — тем, кого боятся, черным человеком из легенд, палачом из кошмаров. Перед глазами у меня снова встало лицо матери, и я устыдился того, что слишком долго отвергал пример ее доброты. Наконец, я вспомнил о любви Женевьевы и еще яснее понял, что она вернула мне жизнь, которая без нее, наверно, навсегда осталась бы добровольным заточением. Музыка смолкла. Я услышал, как Женевьева встала, подошла к окну, открыла его, снова закрыла. Скрипнула дверь: она прошла из кабинета в библиотеку. А я все стоял в полумраке, слушая свою память, слушая в себе печальные и нежные аккорды растаявшей музыки, вновь и вновь повторяя себе, почему должен был покинуть тюрьму своего одиночества, хотя прежде я сам посмеялся бы в душе над этими доводами или проигнорировал бы их. Но то мрачное время прошло безвозвратно, говорил я себе (и страстно желал этого), прошло пустое время возмездия; и Женевьева вернулась… Я бросился вверх по лестнице. Она обернула ко мне спокойное, сияющее счастьем лицо: