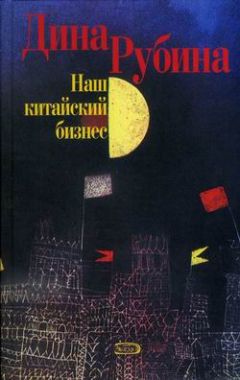Я смиренно смотрела на этого чудного старика.
– Моя профессия – наблюдать, – сказала я грустно. Он сердито покрутил ложечкой в полупустом стакане.
– Да, – сказал он. – Человеку бывает трудно управлять своими чувствами. Но человек должен сделать все, чтобы эти чувства не бушевали на поверхности.
– Вот именно, – сказала я. – Итак, за что же?
– Он отнял у меня любимую женщину. Это было так давно, что уже не о чем говорить…
– …юную особу в красном плаще?
– …в красном плаще… Через год она опомнилась и пришла ко мне, а он уехал в Италию… но после войны вернулся, и этот кошмар возобновился с какой-то безумной силой… И два года она металась между ним и мною и таяла от чахотки… История, знаете-ли, банальная…
– Все истории банальны, – возразила я, – пока они не случаются лично с тобой.
Я… я не знал – куда деться после ее смерти. Как будто окончен спектакль, и надо выйти из театра – а куда идти?.. Это был 47 год и я придумал себе ехать в Швейцарию, в Монтрё – где собирался конгресс еврейских общин… Выехал в Шанхай, за визой, и там меня вьюга застала – страшная вьюга, бушевала три дня… Лететь мы должны были на американском самолете, в то время летали такие, переделанные из военных транспортников… Ну, вьюга – куда деваться? Поехал в клуб "Бейтара", встретил там приятеля, заказали мы ужин… Вдруг – как наваждение: в дверях цыганка. Швейцар – гнать ее, а я как брошусь – впусти, впусти ради Бога! Сунул мятую купюру, он впустил… А у меня такая тоска страшная! Только похоронил, знаете… все представляю, как ей холодно там, в такую-то вьюгу, одной лежать!.. Говорю этой цыганке – погадай мне, только смотри, не обмани! А она мне – эх, душа моя, вижу, сердце у тебя изранено… Знаете, эти их цыганские штучки… но Бог мой, в самую-самую точку! Ну, прошли мы с ней в комнату. Она подает горсть амулетов, велит – брось на стол. Я бросил… Она долго рассматривала… Потом раскинула карты Таро. И, наконец, говорит мне: ты сейчас ехать хочешь, но никуда не поедешь. В казенном доме тебе нужной бумаги не дадут. А через полгода уедешь в страну, где будешь очень счастлив… Да… маленькая собачка была у этой цыганки, смешная такая, грызла трубку… И что вы думаете? Через три дня прихожу в швейцарское консульство, выходит консул с телеграммой в руках и говорит – конгресс откладывается на неопределенный срок… Вот так… И сюда я попал – точно по цыганскому слову – через полгода.
– И были счастливы? – спросила я.
Он помолчал.
– Понимаете, – сказал он, – последняя карта выпала тогда – ярко-красный закат солнца… Черт возьми! – спохватился он, – зачем я все это вам рассказываю, к чему это вам-то – вся эта чужая прошлая жизнь!..
– Наверное, из-за красного плаща, – предположила я.
Пряные запахи струились из кухни – кофе с кардамоном, ванильной пудры, горячих булочек – мешались с запахами влажной хвои и преющей земли. Янтарная светотень лепила мощные стволы старых сосен. На широких, облупленных перилах террасы мягко играли две рыжие, абсолютно одинаковые, видно родственные, кошки. Иногда они замирали обе, подняв друг на друга лапу, словно замахиваясь ударить – симметричные, как на древнеегипетской фреске. Я украдкой ими любовалась.
– Она была так талантлива! – проговорил вдруг старик со сдержанной упрямой силой. – Целый год до войны училась живописи в Париже, ее акварели хвалил Роберт Фальк, она писала стихи… Перед смертью сочинила стихотворение, там были такие строчки:
" …и окунуться молодым – из дыма жизни уносящейся в сгущающийся смерти дым." …Вам нравится?
Мне вспомнились муторные времена моего руководства литературным объединением. Это тоже было очень давно, хотя и не так давно, как у Якова Моисеевича.
– Не очень… – сказала я, стесняясь и жалея старика, – "ся-ща", "ши-щи"… Не очень профессионально.
– А мне нравится, – сказал он доверчиво, сморкаясь в салфетку. – "Из дыма жизни уносящейся – в сгущающийся смерти дым…" Однажды я приглашу вас и покажу одну ее акварель. Она висит у окна, чтобы – всегда перед глазами… Немного выцвела, и это даже лучше – краски с годами стали нежнее…
Эх, Яков Моисеевич, подумала я… Не акварели у вас перед глазами, не акварели, а коньки "шарлотта", коричневые ботиночки, тугая шнуровка…
– Яков Моисеевич, простите за бестактность, но если уж зашел разговор… Не могу никак понять – зачем вам сегодня-то, после всей этой жизни – видеть его, сидеть за одним столом, обсуждать какие-то дела? Он взглянул на меня недоуменно:
– Но… Господи, вы ничего не поняли! У нас же Алик! И он нуждается в присмотре, в заботе… В принципе, он вполне самостоятелен, хотя и живет с Морисом, – тот очень к нему привязан. У Алика вообще-то характер мягкий, покладистый характер… но… иногда у него бывают приступы страшной тоски, беспокойства. И тогда он уходит из дому… В последний раз полиция нашла его в Хайфе… Мы сбились с ног, чуть с ума не сошли от ужаса…
Понимаете, – он поднял на меня ясный старческий взгляд, – она родила его незадолго до смерти, когда ушла к Морису – навсегда… Очень роды были тяжелые, ребенок чуть не погиб…
Я молча смотрела на старика.
– Алик – ваш сын? – тихо выговорила я.
Он молчал, разглаживая салфетку большими пальцами, сточенными жизнью.
– Не знаю… – сказал он наконец. – Не знаю…
Я вдруг подумала о первом хозяине этого дома, о выкресте Шапиро. Где он застрелился, – наверху, в одной из спален? В зале, где стоит старый рояль? – нет, это было бы слишком театрально… А может быть, пока семья еще спала, он вышел в утренний сад, где смиренно стоят плакучие сосны, в сад, влажный от росы, достал из кармана халата револьвер… И одинокий утренний выстрел не спугнул батистового облачка, упущенного по течению ленивой небесной прачкой…
– Позвольте, я оплачу счет, Яков Моисеевич, – сказала я, как обычно. – Меня хоть и выгнали в очередной раз с работы, но уплатили некоторую сумму, так что я гуляю…
– Знаете что, платите! – сказал вдруг непреклонный Яков Моисеевич. – Платите. У вас еще все впереди.
Он поцеловал мне руку и пошел. И шел к ступеням, аккуратно огибая столики. В кепке, похожий на еврейского мастерового.
Из дыма жизни уносящейся – в сгущающийся смерти дым.
1999
Иерусалим