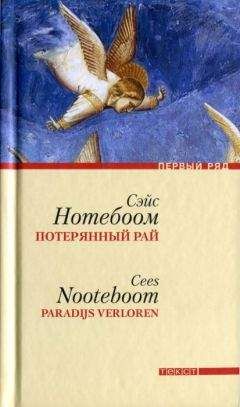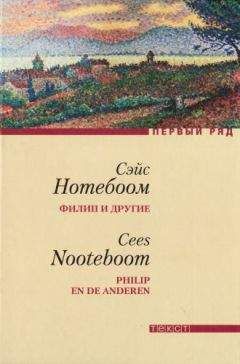14
— Вы хоть раз посмеялись над чем-нибудь вместе, когда остались одни? — спросила Альмут.
Я знала, что рано или поздно она меня об этом спросит. И еще — что она обижается на меня и злится. Если мы ни над чем не смеялись, все у меня пошло наперекосяк. По ее мнению. Едва я вернулась в Аделаиду, как она потащила меня в Порт-Вилунга, поближе к тому бунгало: она хотела его увидеть. Тот же пляж, тот же океан, те же птицы — но теперь я знала их имена. Мы сидели высоко над пляжем, в ресторанчике «Звезда Греции», названном так в память о разбившемся неподалеку отсюда греческом корабле. Начинался прилив и волны, набегая на пляж, все еще пытались что-то рассказать. Я молчала. Я понимала, чего ждет Альмут, у нас никогда не было секретов друг от друга. Но на этот раз я ничего не могла рассказать ей, пока — не могла.
— А ты чем занималась всю неделю? — спросила я наконец.
— Я? Да так… как всегда, дурака валяла. На самом деле думала о том, как быть дальше. Я не знала, вернешься ли ты назад.
— Разве я не сказала, что вернусь через неделю?
— Да, но мне показалось, что ты и сама не веришь в то, что говоришь. Мне показалось, ты вообще не собираешься возвращаться.
Я пожала плечами, а она принялась себя накручивать. И стало ясно, что мне вот-вот придется выбросить белый флаг.
— Почему бы нам не обсудить создавшееся положение? Во-первых, у нас кончились деньги, но это не самое страшное. Я не могу понять, что с тобой, я не привыкла к этому. Я беспокоюсь. И не потому, что этот тип отказался со мной встретиться, но из-за тебя, он ведь и тебя больше не желает видеть, я правильно поняла?
Мне очень нравятся его картины, особенно та, от которой ты лишилась ума. Не помню как она называлась, но на нее стоило бы повесить табличку «Врата Ада», будет ближе всего к истине. Неудивительно, что этот тип ни разу не улыбнулся. Мне вообще не приходилось видеть, чтобы кто-то из них улыбался.
— Из них?
— Я тебе не рассказала, извини. Как-то в Элис-Спрингс, вечером, когда ты уснула, я пошла пройтись и забрела довольно далеко.
— С тобой что-то случилось?
— Ничего. Я внезапно наткнулась на троицу его соплеменников, и они, и я, мы так растерялись, что буквально застыли на месте.
От меня за версту несло пивом, только и всего. А они стояли и молча смотрели, пока я не повернула назад. Вот и все. — Она помолчала и добавила: — Такая тоска…
— Иногда и у нас в Сан-Паулу бывает тоскливо.
— Да, но не так. Во-первых, там смеются, даже если случится что-то ужасное. Ведь и к нам завозили черных, рабов из Африки, но те, по крайней мере, веселые и замечательно пляшут. Я хочу сказать, танцуют по-настоящему. А здесь… ты можешь представить себе аборигенов, разучивающих самбу? И не только это. Какая-то безнадега кругом. Помнишь, что сказал Гроучо Маркес? Когда мы замерли у края набережной, едва не сделав лишний шаг? «Им не повезло». Так и здесь: им не повезло. Они просто застыли у края, испугались переступить черту, задержались на переходной ступени развития, а все, что нам здесь показывают, — fake, фальшак.
— Что — фальшак?
— Все. Раньше, к примеру, они рисовали картины на своих телах или делали их из песка. Те картины были им для чего-то нужны, но поднимался ветер, уносил с собой рисунок. И все исчезало к чертовой матери. Чем бы они сейчас торговали, если бы все продолжалось как прежде? Как мне узнать, для чего предназначен рисунок на коре, который я купила, — может, его полагается класть в гроб к покойнику? А сколько таких рисунков изготовляет каждый из них? И как все это происходит? Они ведь не сидят черт-те где, в своих священных пустынях, ожидая, пока прилетит галерейщик в голубом вертолете с полной сумкой денег?
— Ты надеялась увидеть настоящих дикарей, и теперь разочарована?
— Возможно. Но скорее всего, я права.
— Хочешь сказать, что драгоценные мечты нашего детства пошли прахом? Но всего неделю назад, в Убирре, ты искренне восторгалась всем, что видела. Уже забыла?
— Нет, не забыла. Просто мне показалось, что эти ритуалы связаны со смертью, и когда ты исчезла у меня на глазах…
— Я не исчезала.
— Может быть, но у тебя был жутко несчастный вид…
— Вовсе нет. Это было… другое. Я искала выход.
Она коснулась моей руки.
— Я больше ни о чем не буду спрашивать, извини. Но пожалуйста, скажи что-нибудь смешное. Чтобы насмешить меня. А потом я расскажу тебе кое-что. Мы получили предложение, которое, надеюсь, заставит тебя хохотать до упаду. Но сперва — ты.
— Maku.
— Maku, — повторила она. — Уже можно смеяться?
— Смешно будет, когда ты узнаешь, что это значит.
— Ну хоть намекни.
— В пустыне я ела совершенно замечательные maku. Личинки молей и жуков. Аборигены находят их под корнями местных акаций. И tjara — медовых муравьев. После дождя их можно выкапывать из-под деревьев. Муравьи вырастают до непомерных размеров, со стеклянные шарики, в которые играют дети. А внутри у них — сладкая желтая дрянь, и рабочие муравьи приходят, чтобы сосать ее. Видишь, как много нового я узнала. Меня теперь можно бросить одну в пустыне. Я выживу. Так что за предложение ты получила?
— Это в галерее, в Перте. Невероятно денежное и вдобавок совершенно безопасное для нас. Они проводят литературный фестиваль с театрализованными представлениями. И ищут ангелов, вернее, статистов, готовых переодеться ангелами.
— Для представлений?
— Нет. Не знаю, все ли я поняла правильно, но мне сказали, что во время фестиваля по всему городу в определенных местах будут спрятаны ангелы, а люди, которые приедут на фестиваль, должны их отыскивать.
— Нам надо что-то делать?
— Ничего. Нам выдадут крылья и целую неделю будут по утрам привозить туда, где надо прятаться: в церковь, или в развалины, или в банк, и мы должны оставаться там целый день и ждать, пока нас найдут. Все это как-то связано с Paradise Lost.
— Никогда не читала. То есть пришлось прочесть в школе, но все забыла. Впрочем, нет, не все: там ангел с огненным мечом выгонял из рая Адама и Еву.
— Там еще Сатана, бесконечная первая часть, где Сатана рассказывает, как он ненавидит Бога. И Ева считает, что обязательно должна полакомиться яблочком. Весьма прискорбная история, жаль, что я позабыла подробности.
— И мне. А что будет, когда нас найдут?
— Им нельзя с нами разговаривать. Или нет, они могут к нам обращаться, но мы не должны им отвечать. И не должны шевелиться. Но за очень хорошую плату.
— Откуда ты узнала об этом?
— Из объявления в театральной газете. Позвонила. Там будут пробы. Думаю, тебя они точно возьмут. Со мной сложнее. — Опустив глаза, она полюбовалась своей грудью. — Ты видела когда-нибудь ангела с такими сиськами?
Так я превратилась в ангела. Пройти пробы оказалось просто. Режиссер отобрал меня сразу.
— Самое важное, — сказал он, — чтобы ты могла долго лежать без движения. — И добавил, обращаясь к ассистенту: — Она такая маленькая, что легко поместится в том доме на Вильям-стрит, возле Гледден-Аркад, в шкафу; запиши ее туда.
И снова повернулся ко мне:
— Ты уверена, что сможешь лежать неподвижно? Тебе больше ничего не надо делать.
Я ответила — легко. Мне было о чем подумать. Альмут тоже взяли. Она затянула грудь так, что едва могла дышать, но размер ее сисек никого не волновал.
— Эту мы поставим на крышу Театра Его Величества, против Вильсоновского парка. Она выглядит достаточно крепкой и сможет продержаться с поднятым вверх мечом хоть два, хоть три часа.
Вчера был первый день фестиваля. Вечером мы с Альмут буквально валились с ног от усталости.
— Я целый день проторчала на этом жутком солнце, но вид с моей крыши открывается фантастический. Только людей не было видно. А ты как провела время?
— Я тоже никого не видела.
Никого не видела, зато слышала. Слышала, как они поднимались по лестнице. Потом — шорох шагов по комнате: ищут меня; я всегда чувствовала миг, в который они меня находили, это понимаешь сразу, потому что тебя видит только один человек: каждый участник должен пройти свой путь в одиночку. Я пытаюсь понять на слух: мужчина это или женщина, оборачиваться мне нельзя. Я лежу на дне шкафа, лицом к стене. Когда кто-то входит, я замираю, затаив дыхание; тело немеет, вот что хуже всего, и вдобавок жутко болят места, к которым прикреплены крылья. Когда кто-то добирается до меня, я слышу всегда одно и то же: господи-боже-мой, а пока ничего не слышу, осторожно шевелю затекшими плечами, чтобы не рехнуться окончательно. Особенно раздражают те, что остаются и подолгу глазеют на меня в надежде, что я пошевелюсь или повернусь к ним лицом. Я точно знаю: это — мужчины. И мысленно отправляюсь на свидание со своим любимым Благовещением, вспоминаю позы участников, разворот крыльев. Или вспоминаю, как мы лежали рядом с ним в пустыне, на голой земле. Жаль, что тогда у меня еще не было крыльев. Интересно, где он сейчас и вспоминает ли обо мне. И что он сказал бы, если бы попал сюда, и смогла ли бы я узнать его шаги, к нему-то я бы уж точно повернулась, забыв все запреты… что за ерунда лезет в голову. Да, вот чему еще я у него научилась: определять по стилю картины, где спрятан mob, тотем — догадаться не так трудно, целые семьи работают в одном стиле, я видела в здешнем музее картины других авторов, точно такие же, как те, что он спрятал, когда мне захотелось получше рассмотреть их, хотя, может быть, он прятал меня от них, сохраняя для себя. Так я размышляла часами. И изучала стенку шкафа, оказавшуюся у меня перед носом, каждую трещинку, царапину, неровность; мои мысли бродили между ними, как путник по пустыне. И тихонько напевала, когда никого не было поблизости. Если долго лежать без движения, цепенеешь; либо начинаешь представлять себе, что умеешь летать. Полным идиотизмом выглядело наше вечернее возвращение домой в автобусе, собиравшем шумных, шебутных ангелов со всего города. Каждый изобрел свой способ не свихнуться от безделья: кока-кола, успокоительные таблетки, решение математических задач. Все смертельно усталые и по уши начиненные историями. Особенно интересно было слушать тех, кто встречался с людьми лицом к лицу: им говорили скабрезности или глупости, объяснялись в любви, заигрывали, иногда ругались. Зная, что нам не разрешено отвечать им, некоторые просто срывались с винта.