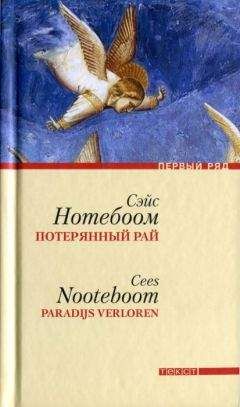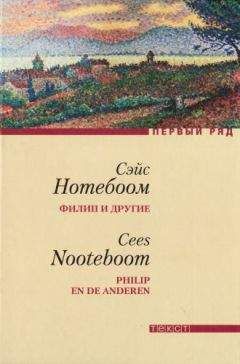Тут она права. Стоя у окна ранним январским утром и озирая бесконечный унылый полдер, небритый пятидесятилетний мужчина и сам понимал (еще до того, как по радио рассказали о двенадцати убитых в секторе Газа), что в других местах в эту самую минуту может происходить нечто по-настоящему ужасное, несравнимое с бесконечно заходящими в тупик парламентскими дебатами о формировании нового правительства.
— Мне не от чего лечиться. Что за бред — платить такие деньги за то, чтобы неделю ни черта не жрать.
— Если относиться к этому с предубеждением — ничего не выйдет. Надо наконец избавиться от лишнего веса, на который ты вечно жалуешься. И Арнольд говорит, что после курса чувствует себя обновленным, словно заново родившимся.
— Тебе этого хочется?
— Чего?
— Чтобы я заново родился. Чтобы стал, в моем возрасте, другим человеком. Я и к себе-теперешнему едва успел привыкнуть!
— Ты, может быть, и успел привыкнуть. А я то и дело впадаю в депрессию. Не хочется тебя расстраивать, но скажу прямо: ты слишком много пьешь!
На это ему ничего было ответить. Далеко внизу огромный белый грузовик, с математической точностью миновав синюю «хонду», вписался в поворот.
— Мне страшно нравится, как Арнольд похудел. И он совсем перестал пить.
— А жалеет только о том, что ему не все можно есть.
Короче, разговор не сложился с самого начала. Он снова взглянул на часы, но тут ожил вокзальный репродуктор и предупредил, что поезд задержится еще на несколько минут. Он не мог понять, почему выбрал именно этот поезд. В Дуйсбурге ему предстояла пересадка на ночной до Инсбрука, и, видимо, что-то в слове Дуйсбург зацепило его внимание. Серый немецкий город увидел он, город, пропахший войной так сильно, что запах этот до сих пор чувствуется, а пережитое Verelendung[28] не позволяет ему отбросить прошлое и развернуться по-настоящему.
Так оно и оказалось. Вдобавок здесь было холоднее, чем в Амстердаме. Ощущение войны накрыло его с головой, гигантские красно-черные заголовки «Бильдцайтунг», которую читал в купе случайный попутчик, грозно глядели изо всех киосков, он потерянно описал круг, понимая, что идет на поводу тайного желания опоздать. Почему он вечно всюду опаздывает? Позвонила Аннук, но поговорить они не смогли: он ничего не слышал. Немецкий поезд прибыл вовремя, и Эрик с трудом втиснулся на узкую, низенькую полку; в пути металлические голоса репродукторов будили его всякий раз, когда пора было отправляться с очередной станции; жалобные гудки поездов казались ему прелестными. Он любил поезда. Вагон мягко покачивало, невидимые барабанщики отбивали под полом убаюкивающий ритм, и, засыпая, он впервые за день почувствовал себя почти счастливым. Он не понимал, зачем позволил им втравить себя в эту безумную авонтюру, но Арнольд Пессерс часами убалтывал его восторженными рассказами о том, какую легкость он ощущает после оздоровительного курса. Вспоминая об этом теперь, Эрик понял, как достал его Арнольд своими разговорами. Они были ровесниками, и каждый точно знал, каких историй ожидать от приятеля. Как-то раз с Арнольдом приключилась великая трагическая любовь — в Японии, с моделью, которую он фотографировал. Сложные любовные коллизии прекрасно смотрятся в мыльных сериалах, но выслушивать рассказы о них в обычной жизни невозможно. Так бесконечные попойки, сопровождающиеся одними и теми же рассказами, в конце концов остонадоели друзьям, и фотографу пришлось самому тащить себя за волосы из болота. Есть что-то мистическое в способности людей раз за разом наступать на одни и те же грабли. Эрик поежился. Бросить пить казалось ему, пожалуй, самым страшным в жизни испытанием, он уже не помнил тех времен, когда не пропускал хотя бы по два-три стаканчика в день. Медики считают это алкоголизмом, но он никогда не пьянел, не страдал по утрам от похмелья, и баланс у него сходился при любой проверке. Да-да, соглашался Арнольд, но рано или поздно придется платить по счетам. И начинал рассказывать о фантастической регенерации печени, исчезнувшем жире, вернувшейся молодой энергии и новом стиле жизни, свод правил которой больше всего походил, по мнению Эрика, на устав монастыря, где одни продукты нельзя было употреблять в пищу вместе с другими, салаты запрещались по вечерам, фрукты после обеда считались смертельно опасными («они сгниют у тебя в желудке»), крепкие напитки годились лишь для самоубийц, вино применялось не для улучшения качества трапезы, но как лекарство, а курение отвергалось. Один-два стакана в день, Господи, легче удавиться с тоски. Но Арнольд действительно похудел, с этим не поспоришь.
Около семи он проснулся. Ситуация становилась все более серьезной: через час они прибудут на место. Деревни, горы, туман, дома, свет в окнах, тени людей за светлыми занавесками. В Инсбруке он отнес багаж в камеру хранения. Арнольд рассказывал, как найти остановку «синей» линии метро, идущего до Игле, но он решил не спешить. Сперва пройтись. Отыскать кафе «Центральное». В это изумительное старинное австрийское кафе, по словам Арнольда, ходил читать газеты сам Томас Бернард. Эрику Зондагу Бернард нравился потому, что со смертью Херманса в Голландии не осталось писателя, который умел бы столь же виртуозно использовать в высокой литературе обсцентную лексику; вдобавок Бернард, в точности как Херманс, предпочитал писать о горькой, лишенной иллюзий любви. Но более всего Эрика восхищал стиль изумительных ругательств Бернарда, страстная ярость высказываний, сдобренных тайным состраданием, с которым австрийский автор повествовал о своем окружении, своей стране и своей жизни, «осененной», как сам он выражался, «крылом смерти».
В кафе он проглядел Standard, газету, казавшуюся выцветшей от времени благодаря желтоватой бумаге, на которой ее печатали, и это тронуло его, внеся анахроническую путаницу в контекст мировых новостей об Ираке, Израиле, Зимбабве; впрочем, старинная мебель и негромкий, точно в старые времена, гул голосов помогали ощутить анахронизм в любом из местных кафе; приятно было представлять себе, что за соседний столик вот-вот усядется Кафка или Шницлер, Карл Краус или Хаймито фон Додерер.[29] Похоже, подумал он, австрийцы специально задерживаются на полшага, отставая от слишком торопливо прогрессирующего мира. И заказал еще кофе.
Королем задержек звала его Аннук.
— Ты понимаешь, что ты делаешь? Мысленно очерчиваешь круг, как можно более удаленный от письменного стола, а потом часами блуждаешь по нему, не приближаясь к компьютеру. Как будто ожидаешь форс-мажорных обстоятельств, которые помешают тебе завершить работу.
— Но я тем временем обдумываю…
— Да-да. Как свалить работу на кого-нибудь другого.
Это была неправда, но разве ей объяснишь? Чаще всего задержки случались, когда новый писатель оказывался не очень хорошим. Едва ли не ежедневно появляются новые имена, но даже если оглянуться в поисках первоклассных писателей назад, в век двадцатый, и спросить себя: многие ли преодолели границу столетий, — увидишь бесконечный поток невнятного дерьма, устаревавшего раньше, чем книга успевала покинуть список бестселлеров.
— Ты слишком строго всех судишь, — сказала Аннук на прощанье, и в голосе ее послышалось что-то похожее на жалость. — Обещай мне, если это не слишком трудно, добравшись до места, забыть обо всех делах и не занимать себя посторонними мыслями. Подумай о своем давлении. Тебе уже не двенадцать лет.
Эта фраза в последнее время повторялась слишком часто. Почему, собственно, двенадцать (а не двадцать четыре или тридцать два, ведь оба эти возраста тоже давно позади), он не понимал, может быть, ей казалось, что «двенадцать» теряется в бесконечной дали. У него действительно высокое давление, артрит и другие скрытые недуги, из-за которых жизнь партнера, едва достигшего сорока, может превратиться в ад. Эрик вдруг осознал свой возраст, стремительно приближающийся к цифре, слишком часто упоминавшейся в объявлениях о смерти. Средняя величина ее возрастала после случаев массового отравления сальмонеллой в каком-то из домов престарелых, однако троица перепивших или накурившихся на дискотеке подростков, в слепом стремлении к смерти врезавшихся в глухую стену, мигом восстанавливала равновесие. Нечего об этом думать.
— …иначе получится, что ты просто выбросил деньги на ветер, — закончила Аннук.
А деньги-то немалые. Особенно в свете того, что, по словам Арнольда, есть там вообще не будут давать.
«Синее» метро оказалось обычным трамваем, ходившим раз в час. Они почти сразу выехали из Инсбрука и покатили по заснеженному лесу. Строка Константина Гюйгенса — «кипенно-белое кружево легкого снега» — вспомнилась Эрику и показалась лучшей из написанного о снеге в мировой поэзии. Вообще-то он лишь изредка вспоминал о Бредеро, Хоофте[30] или Гюйгенсе. По нескольку строк из Катса и Вондела, и, может быть, та строка Гортера, где упоминается о «стоящей на дерьме стране туманов» — навсегда останутся в языке, считал этот голландец, поклонник Шекспира и Расина, но ими вполне можно ограничить знакомство с отечественной классикой.