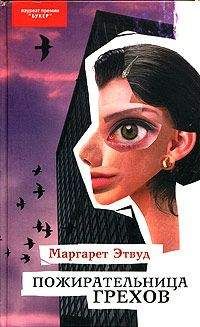Иридий Викторович вначале опасался, что пиджак больше не прирастет к Лялиному телу, что воображение его все время будет заглядывать под покровы, отравляя единственно доступные смертному отдохно-венные отношения – товарищеские, но пиджак проглатывал супругу без остатка, и мысленно сконструировать под ним нагое женское тело было так же невозможно, как в целости и сохранности вообразить в утробе крокодила проглоченную им косулю. Чтобы ночная Ляля (впрочем, там она не имела имени) не возникала днем, нужно было заниматься этим в полной тьме между сном и явью, стараясь дышать только носом и в сторону, чтобы не обнаруживать несвежего ночного дыхания, а наяву разговаривать исключительно о необходимости подчинять личное общественному.
Соприкасаться наяву лишь общественными сторонами своих организмов мешала, главным образом, общая уборная. Лучше всего, когда уборная находится на улице, подальше от контроля, но коммунальный клозет – это все-таки тоже еще ничего: тоже невозможно доказать с полной определенностью, после кого именно остался дурной запах. Хотя догадки все же напрашиваются очень настойчивые. Еще в самом начале супружества Иридию Викторовичу пришлось войти в это заведение после Ляли, и потом понадобилась долгая борьба со своей памятью, оскорбляющей хорошего человека. Однако и самому оставлять подобные следы для Лялиного обоняния было также невозможно (а желудки их какой-то злой рок отрегулировал на диво синхронно), поэтому Иридий Викторович приучился вставать раньше всех в квартире, чтобы пропустить между собой и Лялей Гизатуллина и, если что, на него мысленно и свалить все последствия. Ничего страшного – вставать пораньше даже полезно для здоровья, особенно если при этом еще и пораньше ложиться.
Главное, чтобы все у тебя было как положено – тогда не страшны никакие неудобства. Да ты их просто-таки и не заметишь, если избавишься от индивидуального зрения, годного, как и все личное, лишь на то, чтобы вносить путаницу: пока Иридий Викторович был настолько мал и глуп, что вынужден был смотреть на мир собственными глазами, он видел его до того ослепительным и неисчерпаемо подробным, что до сих пор жуть берет, как бы нечаянно не всколыхнуть эту сверкающую галдящую Атлантиду – с ее Механками, Витьками, Толянами, Чанита-ми, саржами и стянутой кожей на беззащитной ноге... Насколько же безопаснее вместо до жути неисчерпаемых и неповторимых предметов видеть только их назначения-названия («головной убор»), ярлыки-этикетки – тогда и годы с легкостью летят по рельсам, лишь изредка подрагивая на стыках, а болотистые хищные заросли и мусорные свалки, именуемые жизнью, пролетают – благодарение старшим! – мимо, мимо, а все преисподнии погружаются все глубже, глубже, глубже...
* * *
Дни пролетали быстрее, чем прежде тянулись часы. Ляля забеременела. Иридий Викторович распределился на преподавательскую работу. «Кенгуру!» – лез в уши проклятый глас из преисподней, и Иридий Викторович утраивал заботливость. Неприличный уродливый живот объявлял налево и направо, чем они занимаются, – и выставлял Иридию Викторовичу положительную отметку по мужской полноценности. Роды, страх, что если Ляля умрет, то во второй раз ему уже будет не под силу завоевать место в шеренге таких, как все. «У нас сын!» – писала Ляля и просила прислать побольше ваты. Ей наложили швы на такие места, перед которыми содрогалось и падало ниц самое разнузданное воображение. Сынишку Антошку всей родней рассматривали голенького, притворяясь, будто ничего неприличного в этом нет, и даже мама приезжала притворяться, и притом исключительно похоже – ни на лоб, ни на декольте не ложилось даже самого слабого отсвета кровавого пламени: преисподняя временно закрылась, все было как положено .
Иридий Викторович вел занятия на «естественных» факультетах, а естественное – в противоположность искусственному (цивилизованному, планомерно организованному) – означает дикое, хаотическое, необузданное. И задача Иридия Викторовича была – ввести подопечных в русло социализма как высшей фазы разумной планомерности. «Естественники» от начала времен норовили свои жалкие подсобные познания и ремесленные навыки поставить выше... выше чего? Да выше послушания , сказал бы Иридий Викторович, если бы конкретность формулировок не считал (и совершенно справедливо) цинизмом и самомнением. Но в глубине души он был убежден, что в его занятиях важна не столько сумма знаний, номера партийных съездов и их резолюции, сколько воспитание зрелости граждан, заключающейся прежде всего в умении повиноваться без рассуждений – для их же всеобщего счастья, то есть Порядка, преодолевшего первозданный («естественный») Хаос. Потому-то формулы истории партии и научного коммунизма и не должны быть излишне тщательно обоснованны: это не послушание, когда ты повторяешь нечто такое, что представляется тебе истиной, – а ну-ка произнеси публично да с видом убежденности то, что считаешь (и всем это прекрасно известно) заведомой ложью! Если бы всякое додумывание не было цинизмом, а следовательно – самомнением, Иридий Викторович открыто признал бы, что для выработки гражданской сознательности надежнее всего было бы заставлять студентов пробежаться на четвереньках перед лекторской кафедрой, станцевать казачка или пропеть петухом с этой самой трибуны – социалистического амвона: это позволило бы еще надежнее выявить тех, кто слишком много о себе помышляет.
С заведующим кафедрой у Иридия Викторовича установились наиболее желанные для него отношения – отношения младшего и старшего, и в этой позиции Иридий Викторович, ежеминутно ощущая Доверие Старших, охотно сносил неудобства, положенные младшему: вечерние часы, дежурства и душеспасительные беседы в общежитии для выявления настроений и вылазок. Особых вылазок не было, хотя отдельные настроения и проявлялись, но в целом отношение к политике партии было здоровое – безразличное. Впрочем, зная свой контингент, Иридий Викторович старался и не заходить в те комнаты, где могли спросить про зарплату американского рабочего, про Солженицына или Чехословакию: все каверзники и умники были выявлены либо в прежних беседах, либо по сигналам коллег, либо на учебных занятиях, где они задавали каверзные вопросы про Троцкого и Учредительное собрание с единственной целью показать свой ум и поставить воспитателя в неловкое положение. Но влияние их Иридий Викторович умел нейтрализовать неотразимым вопросом Окуня: «А вы откуда знаете?»
И, разумеется, немедленно выяснялось, что никто ничего знать не может, ибо ни к источникам, ни к первоисточникам, ни тем более – это Иридий Викторович знал на своем опыте – к архивам прохиндеи и каверзники не были допущены. Правда, для верности Иридий Викторович все-таки еще и штрафовал их рублей этак на двести сорок, а тех, кто и после этого продолжал упорствовать в грехе, передавал в руки светских властей – в деканат, не испытывая при этом ни смущения, ни жалости: он только слушался, являясь всего лишь орудием высших сил. И заведующий кафедрой никогда не отказывал поддержать его ходатайство на ампутацию зараженного члена: лучше одному члену погибнуть, чем всему курсу быть ввергнуту в геенну огненную.
Заведующий кафедрой имел, в сущности, единственный недостаток – он носил фамилию Малафеев, которую Иридий Викторович никак не мог заставить себя выговорить и потому вынужден был иногда – потихоньку, съеживаясь – позаглазно именовать своего руководителя кличкой, сооруженной местными вольнодумцами из его инициалов – Эсэс (они и кафедру называли – Капэ – командный пункт – Эсэса). Эсэс жил сам и давал защищаться другим: через его Ученый совет караванами проходили гости из южных республик, на выходе обращаясь в кандидатов и докторов наук по партийному руководству всем на свете (земледелием, искусством, коммунальными услугами), а также по партийной борьбе с земледелием, искусством, коммунальными услугами, вернее, всевозможными проявлениями и вылазками в соответствующих сферах. Эсэс грозно, будто на танке, разворачивался у институтского крыльца на бесплатном инвалидском «Запорожце» (о его доходах с Ученого совета ходили легенды, уравновешивающиеся лишь легендами о его расходах на баб с коньяком), неудержимо накатывался по коридору, выбрасывая совершенно прямую, как у павловского солдата, правую ногу, и когда он обрушивался на нее, багровые складки, улегшиеся вокруг его неожиданно круглого ротика, подобно складкам вулканической лавы, тяжко содрогались (от робости перед ним в Иридии Викторовиче пробуждалось циничное личное зрение). Эсэс охотно орал на молодых сотрудников, но в трудную минуту всегда поддерживал и был, кроме того, крупнейшим специалистом по мелкобуржуазности, а также научным руководителем Иридия Викторовича по ее дальнейшему разоблачению. Только Верность хранила Иридия Викторовича от невольного почтения к совсем уже запредельной Верности, с которой мелкобуржуазные революционеры защищали интересы помещиков и капиталистов: помещики и капиталисты сажали и вешали их направо и налево, но эти Василии Шибановы, несмотря ни на что, продолжали объективно отстаивать интересы своих хозяев. Эта самоотверженность, по-видимому, и делала их особенно опасными.