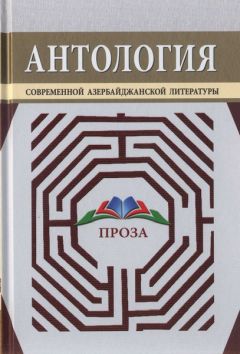Сейчас только Исфендияру пришло в голову, что, может, он и сам хитрил все это время, не без задней мысли старался обласкать Хаджи: не сможет, мол, парень перешагнуть через дружбу, не станет зариться на невесток! Конечно, так оно и было! И Хаджи чувствовал это. Потому и краснел до слез, глаза прятал, потел от смущения. Гурбан уже закурил новую папиросу и посасывал ее короткими торопливыми затяжками… Он вроде бы и не хотел курить, а просто дымил, отгоняя комаров…
— Ты уж прости, Исфендияр, что не спешился я, не пристало с тобой, не сходя с коня, разговаривать… Я, понимаешь…
— Нет! — не слушая председателя, вдруг выкрикнул старик. — Не верю! — повторил он, не замечая, что кричит. — Враки! Чтоб такой человек хлеб-соль мою предал! Не верю!
— Ты что орешь? — Гурбан вздрогнул и настороженно огляделся по сторонам. — Потише не можешь?
— Не могу! Такое на человека сказать! Говори, откуда твое подозрение! Видел что?!
— Я уже сказал, — злобным шепотом ответил Гурбан, наклонившись к старику, чтобы тот мог расслышать его слова. — Видеть я ничего не видел!
— С чего ж тогда взъелся на парня?
— Чутье имею, ясно? Ты погляди, как он ходит: глаза в землю, тише воды, ниже травы! Вечно один, как сыч! Вон деревня-то — двести домов, а хоть раз зашел он к кому, кроме как по делу? А к тебе зачастил! Дня не пройдет, чтоб не наведался!
— Так ведь я сам его приглашал!
Гурбан пожал плечами.
— Ну, знаешь… Больше мне сказать нечего… С поличным я его не поймал — врать не стану!
Старик пристально поглядел на председателя — и вдруг, облегченно вздохнув, рассмеялся громко и весело.
— Чего ж ты мне голову морочишь? Чуть богу душу не отдал! Об одном только прошу тебя, Гурбан, — старик сразу посерьезнел, — если что знаешь, не скрывай! Детьми твоими заклинаю!
Гурбан затянулся и не сразу выпустил дым.
— Если бы у меня были дети, — он хрипло засмеялся, — я бы не хуже тебя в каждом пне теперь солдата видел! — И, наклонившись, он хлопнул кузнеца по плечу. — Стареешь, Исфендияр!
Темная степь с поблескивающими тут и там озерками, звездное небо, затянутое рваными облаками, деревня, спокойно спящая под камышовыми крышами, — безысходной тоской повеяло вдруг от всего этого на Исфендияра. Большего горя, чем бездетность, старик не мог себе представить — и, сообразив, что он сказал Гурбану, сразу забыл и солдата, и фельдшера.
— Прости! — тихо сказал Исфендияр. — Запамятовал… Видно, и впрямь старею.
Конь шел не спеша, пощипывая траву. Исфендияр держался за влажную от росы луку председателева седла, глядел снизу-вверх на светящийся кончик папиросы и все говорил, говорил…
— Брось ты эти мысли, Гурбан! Пусть ты осторожный, бдительный, или как там говорится, только Хаджи ты зря на подозрение взял! Это же золото, а не человек! А дело свое как знает! У сына Абдуллы в трех местах нога была сломана — вылечил! Не всякий врач такое сумеет! Теперь другое смотри: и дед мой, и отец, и жена-покойница — все от лихорадки до срока в землю легли… Говорят, нет на свете врага страшней Гитлера. А я так понимаю: комары эти проклятущие самому Гитлеру не уступят. А Хаджи один на один с ними сражается! Думаешь, легко в болото с комарами да змеями! Я понимаю, Гурбан, ты хочешь как лучше… Вся деревня знает, что ты не для себя, для людей живешь, может, потому и ростом не взял…
— Ну, взял — не взял… это к делу не идет! Уж какой есть! — Гурбан снова хлопнул его по плечу. — Вот что, Исфендияр: хватит про фельдшера! Не стоит он долгого разговора! А между прочим, будет тебе известно: сколько ни было на свете великих людей, все собой невысокие. Кроме одного — громадного роста был мужчина!
Исфендияру обязательно надо было убедить Гурбана, но раз человек сказал «хватит» — значит, хватит.
— И кто ж он такой был? — без всякого интереса спросил Исфендияр.
— Царь Петр Первый! Слыхал? Хотя откуда тебе?.. Я и сам-то не знал, Талыбов просветил. Позавчера в военкомат ездил — вздумалось мне чего-то, взял да и нацепил все свои регалии. Военком глянул — удивился. «Не знал, говорит, что ты у нас такой знаменитый!» Что ж, думаю, не знал, так знай! А он давай мне великих людей перечислять, какие только были, и все это с усмешечкой. Одним словом, дураком меня выставил. Ладно, думаю, давай, только не забывай, друг, что с Гылынч-Гурбаном дело имеешь. Разговариваем о том, о сем, все чинно, благородно, а я потихонечку прижался к нему, кобуру открыл и — раз! — пушку его к себе в карман! Вечером заглянул к нему — сидит, бедняга, лица на нем нет, позеленел весь. Ничего, думаю, пускай… Так и привез домой.
Гурбан достал из кармана браунинг, подбросил его на ладони.
— Что, хороша штуковина?
Старик скосил глаза, молча, взглянул на «штуковину», пожал плечами.
— Не носил бы ты при себе, Гурбан!
— Это почему? — Председатель сунул револьвер в карман. — Что будет?
— Опасное дело. Не приведи бог, рассердишься на кого да пальнешь! А пуля — она проворная, обратно не воротишь!
Гурбан снова вытащил браунинг, внимательно оглядел его.
— Зря тревожишься, Исфендияр! Оружие для меня дело привычное. Мне браунинг — что тебе молот! Случалось, небось, доведет какой-нибудь бригадир, ты ж его по башке молотом не трахал?
— Упаси Бог! И как такое на ум может прийти?
— Да я к примеру!.. Нет, Исфендияр, если оружие в умных руках, от него вреда не будет. Хуже, когда человек у него во власти, вот тогда и вправду плохо дело!..
Зацепившись ногой за куст, старик наклонился, сорвал ветку и неторопливыми движениями стал отгонять комаров.
— Это как же понимать, Гурбан?
— А вот так, Исфендияр… Самому довелось под маузером походить, потому и говорю. Не я его, он меня на людей гнал….
— Это известно. В народе про то немало толкуют…
— Про что?
— Про тебя. Как ты бандитов громил.
— Да?.. — Гурбан промычал что-то неопределенное и умолк. Лаская взглядом браунинг, подбросил его на ладони, спрятал в карман… — Да, поищет теперь военком свою пушечку!.. Страху натерпится, бедняга!.. Ничего! Зато как принесу да выложу на стол — целовать будет, в гости звать! Знаешь, что я ему тогда скажу? Доказать, мол, хотел, майор Талыбов, что я и вправду не так-то прост… Как полагаешь?
Но старик не слушал председателя. Он глядел на светящееся в темноте окно амбулатории и думал о своем.
— Несправедливо ты, Гурбан, о фельдшере судишь…
— Я ведь сказал уже — хватит! — Гурбан и впрямь не на шутку рассердился. — Вот, понимаешь, дался ему этот хромой! Не зови его к себе, и дело с концом! Иди ложись! Спокойной ночи!
— И тебе также. Куда ты теперь направишься?
— Как обычно, проеду, посмотрю… — Гурбан тронул коня. Потом потянул за узду, остановился и, обернувшись, внимательно посмотрел на старика. — Растревожил ты мне душу, Исфендияр. Несешь невесть что! Солдата какого-то выдумал… Знаешь, что: поступай как знаешь, води дружбу с кем хочешь, об одном прошу — не таись от меня!
— Бог с тобой, Гурбан! Чего мне таиться!..
— Ладно, ладно! Иди, ложись, завтра ведь не гулять! Посмотри на себя — больной совсем! И задумываться стал. Вчера вечером иду мимо, гляжу — под деревом сидишь. Я здороваюсь как положено, а ты и ухом не ведешь — задумался. Думать да сокрушаться — пользы мало! Надежду надо иметь! Ведь товарищ Сталин как сказал: будет и на нашей улице праздник!
— Золотые слова, Гурбан, да услышит тебя бог! Только надеждой и живем! А вот не задумываться мне никак невозможно…
— Ладно, Исфендияр, иди домой! Завтра вечером зайду, посидим, потолкуем… С утра-то мне в военкомат. Опять небось повестки лежат. Двадцать четвертый год на учет брать будут. Скоро одни ребятишки в колхозе останутся!
Гурбан уехал. Старик глядел на светящийся огонек папиросы — порывистый ветер то и дело сдувал с нее легкие искорки — и думал, что если бы председатель тоже проводил на войну сыновей, не смог бы он так думать ни о нем, Исфендияре, ни о других…
Снова вспомнился ему давешний солдат. Должно быть, и вправду глаза подвели… Появись в деревне фронтовик, сейчас бы такой переполох поднялся… Двести домов, а горе и радость у всех одни… Солдат! С фронта! Да тут бы и шум, и музыка…
Исфендияр наклонился, провел рукой по росистой траве, приложил ладонь ко лбу… Лоб горел, а спине было холодно, его всего трясло как в лихорадке…
* * *
A-а! Вот оно!.. Он знал, знал… Не обмануло отцовское сердце! Куртка сползла у Исфендияра с плеч, но он не нагнулся, не поднял… Домой! Там, на краю деревни, в его доме, звучит саз…
Сколько лет уже он не бегал! Дыхание вырывалось с хрипом, во рту пересохло, грудь разрывалась от боли… Но Исфендияр все бежал, бежал… Сын вернулся! Это он, Бахман! Сбылся, значит, сон! Не зря он дал зарок, не зря ждал…
Исфендияр добежал до калитки. Перед глазами все плыло, качалось… Огромный темный тополь наклонился ему навстречу, протягивая шумящие ветви; рыжее пламя, вырываясь из самоварной трубы, металось под порывами ветра из стороны в сторону…