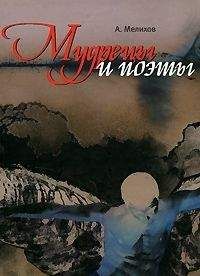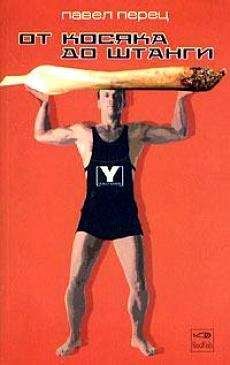Оделся Дима в две минуты. Раньше он не столько одевался, сколько наряжался, а теперь просто оделся, хотя вечером собирался с Юной в театр. Раньше каждого из этих обстоятельств – театра и Юны – было бы достаточно, чтобы десять раз переодевать рубашку и перевязывать галстук, но ему теперешнему – непринужденному и беззаботному – ничего этого не требовалось. Теперь, когда у него была Юна, ему не требовались столь внешние подтверждения того, что он не хуже других. Если уж Юна в нем что-то нашла, значит, о галстуке можно не беспокоиться, – ну, то есть не беспокоиться больше, чем галстук того заслуживает. Если уж Юна не видит ничего зазорного в том, чтобы появляться с ним в общественных местах, – да она и не такой человек, чтобы у себя в квартире иметь одни мерки, а в общественных местах другие, – значит, беспокоиться не о чем. Значит, все у тебя в порядке и даже более того. Значит, это пусть другие на тебя поглядывают и беспокоятся, все ли, на твой взгляд, у них в порядке. Вот раньше он, например, стеснялся своей шляпы, – с детства у него сложилось впечатление, что шляпа должна обеспечиваться большим запасом интеллигентности, или начальственности, или уж самодовольной глупости. А Юна сказала, что в шляпе он похож на тирольца – и дело в шляпе. Не очень, конечно, понятно, что в этом особенно лестного – тиролец, но, вероятно, всегда лестно быть похожим на иностранца. Вот уж кто были беззаботные и непринужденные (к ним в город в последнее время стали возить интуристов, показывали им крепость и все такое, может, и завод) – орут себе, хохочут, толкаются, и ноль эмоций, смотрят на них или нет. Не как наша шпана – те орут, а сами радуются, какие они храбрые, – нет, интуристы точно так же орали бы и толкались хоть на Луне. Шпану нельзя назвать беззаботной и непринужденной – у нее все на публику, а известно, как артисты, даже выдающиеся, волнуются перед выступлением и во время. У иностранцев же что есть, то и хорошо – рубашка вылезла из штанов, и штаны неизвестно на чем держатся, а значит, так и надо. Позы принимают самые неграциозные, руки зажимают между ног – Дима бы ни за что на такое не решился – или держат их в каких-то карманах то на заду, то на животе – и ничего. Непринужденные, ничего не скажешь. Но как ни трудно было Диме не поглядывать на непринужденных – так же трудно, слыша по радио сигналы точного времени, не посмотреть на часы, проверяя себя по ним, – как ни трудно было не взглянуть, какой у них такой секрет, что все у них как надо, проходя мимо галдящих интуристов, он всегда принимал непреклонный, абсолютно незаинтересованный вид, как и подобает гражданину великой державы: хочется вам – смотрите на меня, а у меня и без вас дел достаточно.
Перед своими было труднее, не было столь мощной опоры, как национальная гордость, а ведь и у нас полно таких, у которых что есть, то и должно быть. А Дима начинал сомневаться в любом своем достоинстве, если кто-то считал абсолютным достоинством что-то свое и не то, что есть у Димы: раз ни одна из твоих доблестей не дает тебе такой уверенности, значит, в каждой из них чего-то не хватает. А уверенность не может не проявиться внешне, в виде свободы и беззаботности, вот и встречаешь людей, у которых все как надо. Как ни одеты они – сразу видно, что это стиль. Пусть никого больше в этом стиле ты не видел – и все равно стиль. Может быть, они его основоположники и единственные последователи, но тем не менее – стиль.
Дима вышел из дому и направился к центру обходным маршрутом, через оставленный посреди нового жилого массива участок лесного массива, объявленный парком. Настроение было до того хорошее, что он поглядывал на редких прохожих не только снисходительно, но прямо-таки с начальственной поощрительностью. Принарядились по случаю выходного, – ну да ничего, сам такой был. Но в парке с его внушительной тишиной спустилась на душу невольная серьезность, почти строгость, однако Дима старался повеселее поглядывать на песчаную дорогу, деревья, палую листву, еще совсем нераскисшую, – ему жалко было терять непринужденное поощряющее настроение.
Он шел медленно, поглядывая по сторонам. Он был как-то не приучен любоваться природой, всегда ее было кругом слишком много, и с детства она представала ему утилитарной стороной, что ли, – служила, так сказать, объектом трудовой деятельности – ягоды собирать и всякое такое. Но сейчас в его светлой серьезности ему хотелось смотреть на нее, и он смотрел.
Дорога вдали – грубо, как кладбищенский крест, – была сплошь вызолочена лиственничной хвоей. Он знал, что хвоя эта мягкая, почти как мох, мягче сена. Можно сжать в кулаке, и почти нигде не уколет. Лиственниц тут понатыкано полным-полно, почти одни лиственницы, но есть и ели. Стволы у лиственниц гораздо корявее и, начиная метров с полутора, сильно расширяются книзу – похожи на ракеты со стабилизаторами. Они мощно устремляются вверх и как будто навстречу друг другу, но у вершины резко сходят на нет, загибаясь, как поросячьи хвостики, причем все в одну сторону, – в эту сторону, видимо, чаще дует ветер. Голые ветки, мохнатые от плоско лежащего на них мха, походили на гусениц. По ним были рассыпаны слишком мелкие бубенчики шишек. Тем суровее темнели ели, и стволы у них без легкомысленных крайностей и вверху, и внизу, без лишней корявости, чешуйчатые, как змеи. Лапы у елей округло мохнатые, а у лиственниц – как коряги. Дима засмотрелся на ель и вдруг увидел, как три могучих корня почти перпендикулярно друг к другу отходят от ствола и впиваются в землю – в точности куриная лапа. Вот она откуда – избушка на курьих ножках.
Здесь тихо, а вверху, под сгустившейся к зениту синевой, – ветер: вдруг все вершины разом двинутся в одну сторону и земля поплывет под ногами. Хорошо! Не надо гордиться – бояться смотреть вверх, на то, что выше тебя. Теперь, когда у него была Юна, он знал, что нет ни «выше», ни «ниже» – вселенная во все стороны одинакова: «выше» и «ниже» зависит только от системы отсчета – от тебя же. Сейчас оно выше, а ляг на спину – будет перед тобой, стань на голову – будет под ногами. Дима осторожно тряхнул маленькую сосенку, почему-то сильно пожелтевшую, – тряхнул не поощрительно, а просто так, скорее как бы заигрывая, стараясь ей понравиться, – и услышал сухое электрическое потрескивание, как будто кто-то стаскивал через голову синтетический свитер. Удивленный, он тряхнул еще раз, и снова раздалось потрескивание. Только с третьего раза он понял, что слышит микроскопическое пощелкивание осыпающихся сухих иголочек. Вдруг его взгляд сделался настороженным: ему пришло в голову, почему одна эта сосенка желтая среди зеленых, что у нее? Он ощутил прилив сочувствия к ней, профессионального сочувствия, мигом выключающего сентиментальность и связанного непосредственно с руками, глазами, ушами, здравым смыслом. Кажется, еще секунда – и он послал бы ее на рентген.
Невольно взбодрившись, он зашагал живее и снова резко остановился перед внезапно появившейся из-за кустов быстрой речкой: белая пена бесшумно неслась по черной воде, все проносилась и проносилась мимо и никак не уставала проноситься. В бесшумном движении всегда есть что-то жуткое. Дима долго в оцепенении смотрел на воду – он мог позволить себе оцепенение: времени у него все равно было слишком много. Чувство радостного ожидания ушло куда-то вглубь и ровно светило ему оттуда. И когда он вышел из парка, когда шел по асфальтированным улицам, он испытывал по отношению к прохожим непринужденность гораздо большую, чем простая снисходительность, – он их не замечал.
Он подходил к центральному парку, настоящему парку с настоящими качелями, колесом обозрения, пыльными – частью ободранными, а частью облезлыми – деревьями, тиром и разнообразными павильонами в косую планочную клетку. Минуя телефон-автомат – здесь они назывались таксофонами, – он снисходительно вспомнил, как сначала думал, что они служат специально для вызова такси. Странно, что его смущали такие вещи: не знал – ну и не знал. А они другого не знали, что он знал. И в Москве, дурак, стеснялся рассматривать схемы метро, притворялся, что смотрит на что-то другое, а на схему лишь изредка бросает случайный взгляд: хотелось, чтобы его принимали за москвича. Сейчас он этого решительно не понимал. Что такого – он у них в городе нездешний, а они у него.
Вдруг ему захотелось позвонить ей: голос ее он всегда рад услышать, и, главное, беззаботная непринужденность требовала выхода, одним из ее атрибутов было умение мимоходом пользоваться всякими элегантными городскими удобствами, от таксофона до ватерклозета. Однако в стеклянной будке, под солнцем, которое без прохладного осеннего ветерка вдруг обнаружило удивительный жар, он моментально так взмок, что, не добрав номера, выскочил наружу: не хватало еще явиться к ней с распаренной физиономией и подмокшим воротничком.
Он шел по центральной аллее, присыпанной, как в парилке, сухими зелеными листьями, шел, стараясь не попадать в ногу маршевой музыке, гремевшей из репродукторов, – следующая ступень – в кино притоптывать ногой, и еще следующая – вслух читать титры, – и уже видел впереди, у бассейна – центра центрального парка – редкую и неоживленную толкотню. Здесь, сидя на скамейке, он недолго рассматривал общепризнанную грацию лебединого скольжения, настолько общепризнанную, что даже над кроватью его родителей когда-то висел самодельный ковер из клеенки: щедро пробеленные лебеди на щедро пролазуренной воде. Оказалось, что они не только скользят: то забарахтаются на месте, колотя крыльями, будто кто-то под водой схватил за лапы, то полуполетят, касаясь воды и помогая лапами, как гуси, а то еще перевернутся вниз головой и, усиленно работая лапами, чтобы не опрокинуться обратно, добывают что-то со дна. Гуси – те еще могут себе такое позволить, но лебеди! Зад торчит из воды, огромный, как полузатонувшее судно, да еще из-за сомкнутых сзади крыльев кажется раздвоенным, как епископская митра. Так вот и люди, рядящиеся под лебедей, обнажают свою гусиную сущность: облают, сплюнут, почешут спину – и готово.