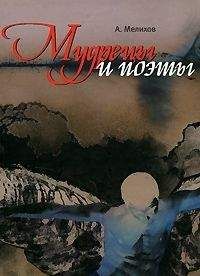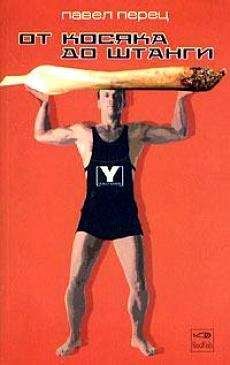А вот Димина мать причитала над отцовским гробом так тщательно, так не упускала ни малейшей подробности из последних дней его жизни, а упустив, с такой ужасной методичностью возвращалась, – да, а еще до этого Димочка у него спрашивает: папа, говорит, а мы на рыбалку с тобой поедем? Поедем, говорит, вот и поехали на рыбалку, оставил сь… сь… сиротиночку, – все это с такой методичностью, что у Димы возникла полубезумная догадка: она притворяется. Тогда поразила его эта догадка и еще длинные ноздри отца – никогда он их не замечал, может, просто не рассматривал отца снизу, а недавно заметил и у себя такие же и время от времени подходил к зеркалу и, запрокинув голову, разглядывал их так и этак. Наверно, эта догадка мелькнула и у сестры, – у нее, кстати, тоже были эти ноздри, только по-женски смягченные, – и, наверно, она побоялась, как бы такая же догадка не мелькнула у кого-нибудь еще, – словом, сестра что-то такое, наверно, матери шепнула, и мать так вскинулась, что его догадка чуть не перешла в столь же сумасшедшую уверенность: настолько, оказалось, она хорошо помнила – и ни граммом меньше того, что ей положено, – свои сегодняшние вдовьи права центральной фигуры голосить как пожелается, а если попробуют помешать, то и наорать как пожелается, потому что права-то эти, сами понимаете, священные, так что выкусите-ка все, кому не нравится – уж извините, коли что не так, мы люди простые, писаных пряников не едим, а придется вам потерпеть: против священных-то прав не попрешь. Казалось, она не упустила ни одного мелкого преимущества своего вдовьего положения.
Но на кладбище мать стала с рычанием бросаться на ровненькую, как морковная грядка, узенькую насыпь, – неумело разбегалась на несколько шагов и, зарычав, бросалась вперед, – и он, вспоминая ее рычание, всегда леденел от ужаса: ему казалось, он понимал эту жажду сделать себе побольнее, не выдирая волосы или расцарапывая лицо (разве это боль!), а – безобразием: с рычанием при всех упасть на четвереньки лицом в свежую аккуратную грядочку, которая уже все, и намазать его пожирнее, как бутерброд. Конечно, какой еще болью можно оглушить, ослепить, наркотизировать себя глубже, чем вывернув в безобразии! Может быть, догадка эта страдала чрезмерной усложненностью, как первая – упрощенностью, но для Димы она была очень характерна, указывая на его повышенное внимание к изящному и безобразному. Воспоминание это являлось к нему в самых неожиданных и людных местах, и он, привычно леденея, вглядывался в лица и думал: неужели каждый в себе что-то такое носит?
Самое привлекательное в свободных – они свободны от мыслей не просто мелких, но некрасиво мелких, от которых ему никогда уже было не избавиться. Он, например, не мог не отмечать, что вот это блюдо в меню на три копейки дешевле, чем то, вот этому сослуживцу сбрасывались на день рождения по пятьдесят копеек, а ему, Диме, по тридцать, этот взял рубль и не отдает, наверно, забыл, но мысль о том, что он притворяется, а сам не забыл, никак не хотела убраться насовсем, а все кружила вокруг до около. Дима мог не подавать виду, мог их скрывать, эти пакостные мысли, а у них, настоящих свободных, такие мысли не возникали , как в общественных местах у них, вероятно, не чесалась спина.
Да, вот так. Диме казалось, что за опрятностью свободного достоинства манер кроется свобода от неопрятно мелочной расчетливости, осмотрительности, практичности. Потому-то, может быть, Дима, оставаясь еще довольно молодым мужчиной, постепенно становился довольно старым холостяком. Мужское самолюбие его при этом не страдало, конечно: всем известно, какая ценность для незамужних женщин молодой интеллигентный мужчина с хорошей профессией, имеющий комнату в малонаселенной квартире. На работе предметом шутливого обсуждения женщин-сотрудниц постоянно была его женитьба. «Дима, когда ты наконец женишься? Это просто бессовестно, когда вокруг столько незамужних! Я бы таких штрафовала». – «Надо их, женщин, штрафовать за недостаток обаяния», – отвечал Дима и чувствовал себя гусаром. Будь у него усы, он бы их непременно подкрутил.
С женщинами ему мешала постоянная ничья в той борьбе, которую иногда называют даже борьбой души и тела, где тело – симпатии, приобретенные в раннем детстве, а душа – симпатии более зрелого возраста.
Свобода тех немногих свободных девушек, с которыми он сталкивался поближе, очень скоро начинала вызывать у него отчетливую ассоциацию, которую можно определить – если не искать более тонких или, может быть, просто более благозвучных синонимов – словом «потаскуха». Он начинал чувствовать некоторое их родство с девицами на улицах, у которых лица бело-намазанные, как лебеди на клеенке в его отчем доме, и алый рот пылает на известковом лице, как стоп-сигнал. А Дима не так был воспитан, чтобы пойти на красный свет. Он с детства усвоил, что накрашенные губы – признак вполне исчерпывающий.
Ну а с девушкой такой же, как он, – трудно: оба по полчаса не знают, что сказать, жмутся, – в этом отношении со свободными было куда проще. А почему жмутся? Все та же осмотрительность, недоверчивость: каждый подозревает, что другой готов его высмеять. И мелочность тоже, боязнь переплатить, улыбнуться на миллиметр шире, чем улыбнулись тебе.
Сквозь расчетливость, которую он в них угадывал, очаровательная любовная игра, намеки, подшучивания казались ему вымученными. Флирт таких, как он, вызывал у него в памяти какую-то такую картину. Идут мужчина и женщина, обоим за сорок, оба заезженные – оттого и осмотрительные. Если все на них новое, так еще только больше видно, какие они зачуханные. Он худой, лысый, обалдело носатый, она кокетливо мелкокучерявая, крашенная в ярко-рыже-фиолетовый цвет – туда же накрасилась! – крепкая, крепче его, раздавшаяся, как раздаются заезженные женщины – не в женские формы, а в кость, в бока, в живот. Идут под руку, его рука так и ходит, то пожмет ее локоть, то подхватит за талию, то похлопает по спине, а сам изогнулся к ней этаким чертом и что-то в ухо ей наговаривает, а она заливается. Вдруг – видно под разговор пришлось – он начинает спихивать ее в канаву, – а выглядит она крепче его, но понимает, что по правилам ей положено хохотать и взвизгивать, и правила эти ей по душе, она хохочет и визжит. Он тоже победно хохочет, – парень с девкой – заиграй тальяночка. Он чего-то напористо-игриво допытывается у нее, спрашивает все одно и то же, а она задорно отвечает: нисколечко! нисколечко! И глядят друг на друга прощупывающе и лукаво – блудливо. Или он толкает ее в сугроб, это все равно. Участвуя в заигрываниях, Дима чувствовал себя этим мужчиной.
А между тем, казалось ему, мало кто мог так хорошо понимать, какое это счастье – близкая женщина.
Не слюнявые объятия – что-то такое у него бывало, – нет, он знал так ясно, словно прошел через это, как чудесно иметь друга, который тебе ближе, чем ты сам, которому можно рассказать, что и себе постесняешься: сам ты все-таки мужчина, а перед ними нужно держать марку. А этот друг понимает больше, чем сказано. И друг этот нежный и робкий, ты его сильнее, он жмется к тебе в трудную минуту, ты тоже для него опора, потому что трудно вам разное.
В поздней, «духовной» стороне его воображения, похоже, испытавшей влияние кинематографа, брезжила какая-то такая картина: элегантная постель, двое, видна божественная линия ее руки и рассыпавшиеся волосы, его голые плечи и мускулистая шея, но дело совсем не в том, что постель и плечи, они и не замечают, что постель и плечи, – они разговаривают.
И разговаривают не потому, что волей обстоятельств попали в одну постель, как разговаривают попутчики в поезде, – нет – им хочется разговаривать, им интересно разговаривать, каждый из них ужасно хочет поделиться своим и принять чужое, они спешат все узнать друг о друге, перемешать свои души в одну. Они смотрят в глаза друг другу без тени скованности, то есть стыда, потому что у них нет и тени задней мысли, они ничего не собираются выгадать друг на друге. Мелочные потому всегда и скованны, что у них постоянно есть какая-то задняя мысль.
Диме ох и редко доводилось смотреть в глаза без тени скованности!
Ранней же, «телесной» стороне представлялось что-то в таком духе: праздник – Май или Седьмое, утро, босиком, шлепая по полу, выходишь в кухню и стоишь, сморщившись от света, а у стола мать с отцом. Отец в белых солдатских подштанниках и такой же рубахе, уже пропустил стопарик-другой, оба улыбаются – сидят себе довольные и болтают вполголоса, а когда замечают тебя, улыбаются уже другими улыбками, друг для друга у них улыбки не такие; тут, едва стукнув, входит соседка, и отец, всегда такой основательный, рысью мчится в комнату, – в глазах у Димы так и стоит его нога в белой штанине, торчащая из-за косяка. «Ишь, сорвался!» – смеются мать с соседкой, но Диме кажется, что соседка завидует, что она не допущена в число «своих» – среди кого можно сидеть в подштанниках.