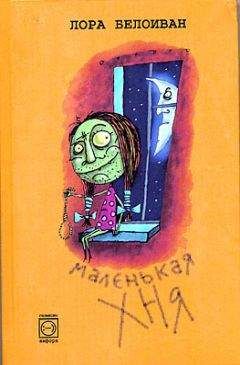— Потому что еще никому не удавалось покончить с собой. Для того, чтобы умереть, всегда нужны другие люди.
— Это чтоб родиться, нужны другие люди.
— Родиться или умереть, какая разница?
Когда Ленин застрелился пулей, смоченной, как выяснилось позже, ядом цикуты, все заметили рядом с ним прозрачную женщину. По описаниям очевидцев это была Фанька. Когда я умру, рядом со мной увидят прозрачного Радзиньски.
— Радзиньски, для чего тебе понадобилось сочинять всякую фигню про Рождество в женской гимназии? Ведь не было же ничего подобного? Не было никакой Фаньки сроду? Не было никакой такой сумасшедшей ненависти, похожей на любовь?
— Ты скажи еще, что и меня нету.
— Конечно, нету!
— Тогда с кем ты сейчас разговариваешь?
Надо же. Самое смешное, что я не всегда заранее знаю, что он мне скажет.
Чучело Ленина, пожизненно больное двумя идеями — любви и смерти, тосковало на заднем сиденье моей машины. «Божежмой, кого только не поперебывало в бедненькой Камине», — подумала я.
— Я хочу домой, — сказал Ленин, — пошли домой, Фанинька!
— Слушай! Как тебе взбрело удумать такое имечко? Все-таки любимую женщину сочинял.
— Я не понимаю, о чем ты говоришь, Фанинька, — затосковал Ленин глазами.
— Да когда ты вообще понимал хоть что-нибудь, — вздохнула я.
Ехали мы медленно. Как совершенно верно догадался когда-то великий поэт-песенник, опоздание в гости к Богу — полнейший нонсенс. В черном непрозрачном пакете на переднем пассажирском сиденье, еще не остывшем от плода моего воображения, лежал ярко-красный мячик с зеленой, синей и желтой полосками. Самый красивый мячик, который только можно было купить в «Мире игрушек». Из пакета пахло новой резиной, возбуждая на подвижные игры.
Благополучно миновали проспект Красоты. Ленин смотрел в окно.
— Куда мы едем? — спросил вдруг он.
— Домой, — ответила я, — ты же хотел домой, Володенька?
— Да, Фанинька, да! Домой! Домой! Я давно хочу домой, а меня все время не отпускали.
— Кто же, Володенька?
— Нубийцы. А сначала — эти, как их.
— Кто?
— Зрители.
— Ты сам виноват, Володенька.
— Они все время вызывали меня на «бис».
— Надо было дать пистолет мне. Я бы не промахнулась.
— Ты снова говоришь непонятное, Фанинька.
Я промолчала. Как будто я не помню, как он орал о своем грядущем бессмертии. Доорался. Отправляй вот теперь такого домой.
Мы уже проехали «Краевую больницу», «Покровский парк» и «Семеновскую», когда случилось это мелкое ДТП. Вы же знаете, как это бывает: едешь себе и едешь, можно сказать, в крайнем правом, когда вдруг какая-нибудь холера обойдет тебя слева и ни с того ни с сего подставит свою задницу прямо под твой передний бампер. А у тебя оптика хрустальная и тебе сто раз предлагали поставить защиту, а ты — «потом» да «потом». В общем, приехали, и доказывай сейчас этому мудаку в «Марке» зеленого металлика, что у тебя крыша — сам господин Кербер. Который к тому же отключил мобильник.
— Гаишников или сами разберемся? — спросил довольный мудак.
— Гаишников, — сказала я твердо. Уж что-что, а с этого пути меня не собьешь.
Вокруг нас стали собираться водители автобусов.
— Зря, — сказал один из них, — свидетелей вон сколько, да и тормозного пути у тебя, на хуй, сантиметров двадцать. Не больше. Гы-гы.
— В жопу биться нельзя, — радостно подуськнул другой.
— А в писю — опасно, — добавил кто-то из его соплеменников, и все заржали.
— Баба за рулем — обезьяна с гранатой, — сказал еще один.
Интересно, кто сочиняет афоризмы для автобусных водителей? Впрочем, не интересно.
— Здорово, Саныч, — к мудаку протиснулся автобусный водитель, одетый в синее, и оба пожали друг другу руки, — ты щас на каком работаешь?
— На 17-м, — ответил мудак, — но увольняться, на хуй, буду.
— Чего так?
— Да заебался, понимаешь.
— А-а, ну хули ж не понять. А куда пойдешь?
— Да хуй его знает. Может, в пароходство.
— Там, я слышал, правда нехуево теперь.
— Везде нехуево, где нас нету, — вздохнул мудак.
— А где нас, на хуй, нету? — философски резюмировал синий.
Про меня как будто забыли. А я забыла про Ленина, сидевшего за тонированными стеклами «Камины». Я завороженно слушала диалоги автобусных водителей, когда задняя дверь моей машины открылась, и Ленин, щурясь на солнце, вылез на сцену.
— Маузоллий уже совсем низко, — сообщил он в никуда, тыча желтым пальцем в небо.
— Бля буду — Ленин!!! — воскликнул мудак из «Марка», вытаращившись на моего пассажира, — мужик, ты из театра?
— Маузоллий уже совсем низко, — озабоченно сообщил Ленин мудаку. Автобусники одобрительно загоготали, теснее обступая нас. ГАИ все еще не было.
А Ленин, пристальнее всмотревшись в лица окруживших нас водителей, вдруг преобразился. Я бы сказала, что он ожил, если бы этот термин был корректен в данном случае.
— Пролетарии! — воскликнул он. — Вы — пролетарии! Я вас узнал!
Мне показалось, что еще немного, и он расплачется от радости.
Реакция же автобусных водителей была неожиданной.
— А ты кто, буржуй, на хуй? — набычился крайний справа.
— Пролетарии! Пролетарии! — трясся Ленин, не слыша и не видя перемены.
— Мужик, щас пизды получишь, — прорычал один из водителей с акцентом, и я узнала азера с 60-го маршрута.
— Володя, сядь в машину, — сказала я, подпихивая Ленина к «Камине».
— Фанинька! Не мешай мне общаться с пролетариатом, — неожиданно резко отдернул он руку и отступил от меня. Прямо к окружности, образованной водительскими телами. Я видела, как из окружности высунулся кулак и несильно пхнул Ленина под дыхало. Впрочем, он не обратил внимания.
— Пролетарии! — выкрикнул он, порываясь вскарабкаться на крышу «Камины». Этого мне только и не хватало, чтоб к оптике — еще и кузовные работы. И я оттащила Ленина от машины.
— Пролетарии!
— Мужик, ты охуел, — всерьез обиделся на Ленина мудак и закатал рукава.
— Пролетарии! — продолжал Ленин, впав в какое-то подобие транса. — Есть такая партия!
— Пизды, а вот пизды, — возбужденно подпрыгивал на месте знакомый азер.
Но ударил Ленина первым не он, а худенький водитель в клетчатой рубашке и темно-серых трениках с адидасовскими лампасами. Ударил как украл: без размаху и пряча глаза в асфальт. Ленин от удара отшатнулся, мгновенно наткнувшись на кулак здоровенного водительского самца в спортивном костюме с закосом под Nike.
— Пролетарии! Пролетарии! Вы должны пойти другим путем! — ораторствовал Ленин, летая от водителя к водителю. Те били его молча и, что примечательно, не сильно, но вяленому телу достаточно для полета и ветерка, а тут все-таки кулаки.
— Пролетарии! Учиться, учиться и еще раз учиться! — цитировал Ленин свою пьесу. — И сначала — телеграф!!
— О бля, мужик как в роль вошел, — заметил кто-то из водителей, и тут я вышла из ступора.
— Стойте! — заорала я. — Это на самом деле Ленин!
— Я — Ленин, — повторил Ленин и, споткнувшись о чей-то ботинок, упал на асфальт, где его по инерции раза три или четыре пнули.
— Оставьте Ленина в покое! — орала я.
— Блядь, какие-то два ебанутых, в натуре, — удивился мудак из «Марка», — ну его все на хуй.
— Пролетариат — звучит гордо, — всхлипнул Ленин, лежа на асфальте.
— Вроде потихоньку пиздячили, — задумчиво проговорил автобусник в фальшивом Найке, — а он чего-то вроде как ластами щелкать собрался. Эй, мужик, вставай давай!
— Да это Колян ему захуярил по почкам со всей дури, — сказал кто-то из водительской толпы.
— Ебанись! Я вообще далеко стоял, — ответил, по всей видимости, Колян, но я его не разглядела: я присела на корточки рядом с Лениным.
— Володенька, вставай, а? — потрясла я его за плечо.
— Фанинька! Пролетариат нужно, нужно и еще раз нужно учить, — прогундосил Ленин, не переставая всхлипывать. Тошнотворное чувство, похожее на убийственную жалость, подкатило к моему горлу.
— Чему учить, Володенька? — спросила я, — пусть себе, ну его, — периферийным зрением я видела, как быстро рассасывается окружность водительских ног. На асфальте стало светлее, и почти одновременно с этим явлением в воздухе запахло не полностью отработанным топливом. Спешно разъезжаясь, водители сильно газовали.
— Фанинька, меня никто не любит, — сказал вдруг Ленин, приподнимаясь на локте.
— Полно тебе, Володенька, — смутилась я. От нестерпимой жалости к Ленину его хотелось удавить.
— Не любит никто, — с неожиданной горечью повторил он, — и ты. Фанинька, никогда меня не любила.
— Любила, — соврала я.
— Когда? Я не помню.
— В гимназии.
— И мама любила Сашку всегда больше, — горестно продолжал Ленин, — а Надька с Инькой — те вообще...
— Володя, вставай, — сказала я.
— Поэтому появилась ты, и ты — тоже...