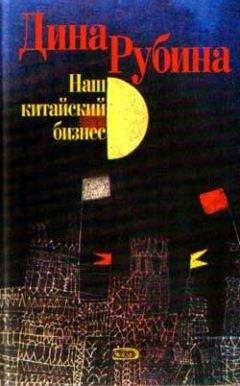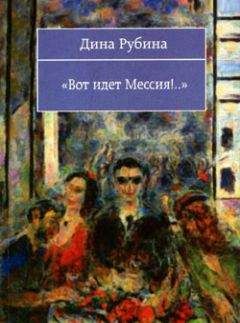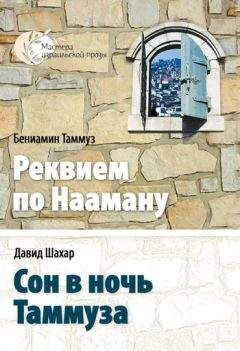В нем погибает неплохой комедийный актер. Какой там «вах!» — и он еле ползает от жары. Да еще на ногах, бедняга, целый день, за мольбертом.
И это чугунное оцепенение тела, вязкость мыслей и полное отсутствие каких-либо желаний он называет жизнью на Святой земле.
Ну, положим, этот банный кошмар длится не 365 дней в году. А зимний многодневный проливень — не хотите ли, — под которым протекают все без исключения крыши всех строений — от паршивого курятника где-нибудь на задворках Петах-Тиквы до небоскреба отеля «Холлидей ин». Выскакиваешь из подъезда, заворачиваешь за угол, вбегаешь под стеклянный навес остановки — и ты уже насквозь пропитан холодной тяжелой водой, вымочен, как белье в тазу. Тропическая лавина, водопад, под которым смешна и бесполезна обычная осенняя одежда — эти жалкие плащи, дождевые куртки с капюшонами, резиновые сапоги… И хочется либо залезть в скафандр водолаза, либо уж раздеться догола и слиться с водами мирового потопа от неба до земли… Недаром это слово в древнееврейском существует только во множественном числе — воды, воды… «Объяли меня воды до души моей…»
Но и дождь, и душу вышибающий ветер, выламывающий ребра зонтов, выдувающий тепло даже изо рта и слезящихся глаз, вспоминаются сейчас как спасение…
Голая писательница N. тяжело поднялась, села, пережидая, пока пройдет головокружение и колотьба в левом виске, возникшие от перемены положения тела, наконец поднялась и на ватных ногах потащилась под душ.
Ну что это, ну как этот ад называется на человеческом языке — перепады давления? магнитные бури? сужение сосудов? приближение смерти? старость, наконец? дряблая рыхлая старость в сорок лет — Господи, когда начнется похолодание! Черт с ней — старостью и смертью, смерть по крайней мере избавит от этого натирающего горб ярма — ежеутреннего, едва сознание нащупывает тропинки в пробуждающемся мозгу, почти мышечного уже сигнала: работать. Встать, принять душ, вылакать свой кофе и сесть за работу — инстинкт, условный рефлекс, привычка цирковой лошади, бегающей по кругу под щелканье бича… Хорошие стихи попались когда-то в юности в куцей книжице молоденькой (забыла, конечно, имя) поэтессы: «А мы сидим в затылочек друг другу, И не понятно — что это такое… А эта лошадь бегает по кругу. Покинув состояние покоя…»
Голая писательница N. печаталась давно, с пятнадцати лет, так сложились обстоятельства. Кстати, для своей первой полудетской публикации в популярном (и тиражном — о, никому из нынешних издателей и не снился размах былого советского Вавилона — трехмиллионный тираж!) московском журнале она прислала свою пляжную фотографию: подросток, костлявая дурочка — полоска лифчика, полоска трусов, размер сатинового купальника, помнится, тридцать шестой, «детскомировский». Разумеется, на фотографии она отрезала и в журнал прислала только голову с плечами, якобы вырез такой у сарафана…
К ее изумлению, рассказик был напечатан в пристойном школьном воротничке. То есть к ее детской шейке пририсовали школьный воротничок. Так что голая писательница N. с отрочества узнала некую истину: голых писателей не бывает. Живых, по крайней мере. Их заголяют после смерти, вытряхивая из фиговых листочков писем и дневников. (Истеричные эксгибиционисты, трясущие перед читателем неопрятными гениталиями, конечно, в счет не идут, оставим творческие оргии содомян ведомству наивысшей инстанции.)
А хрен вам, подумала она, стоя под вялым душем и тяжко поворачиваясь, ни единого интимного письма, ни записочки вы от меня не унаследуете…
Дневников она не писала даже в доверчивой эгоцентричной юности. Что за разговоры с собой? Что за договоры с самим собой, что за условия самому себе, что за бред? Нормальный человек сам с собой не беседует…
Она была абсолютно нормальным человеком… В общепринятом смысле, конечно. Как говорит Доктор — ну что вы заладили, батенька, — сумасшедший он, сумасшедший… Может, он и сумасшедший, но ведь мыла-то не ест?.. Мыла она не ела. Но втайне за любым писателем, и за собой в том числе, оставляла право на некоторые — не извращения, зачем же, и не отклонения, а, скажем так, — изыски психики.
Да взять хоть вчера.
На террасе у Сашки Рабиновича они, как обычно, наслаждались вечерним ветерком из Иерусалима, расслабленно перебрасываясь замечаниями и лузгая тыквенные семечки, которыми торгует рыжая сушеная Яффа в своем паршивом минимаркете. Сангвиник Рабинович вернулся на днях из Праги, где он пытался наладить какой-то очередной утопический бизнес…
— Нам всем надо скорей перебираться в Прагу, — говорил он, бодро лузгая семечки. — И язык родственный. «Жопа» по-чешски будет «сруля», так что база языка уже есть…
Доктор вяло возразил, что, насколько ему известно (у него был чех-пациент), «жопа» по-чешски будет не «сруля», а вовсе «пэрделэ», на что Сашка ответил, что так еще выразительней и лучше запоминается…
— А вот у меня есть пациент, — вступил своей неутомимой валторной Доктор, — так он создает сейчас альтернативную Русскую партию. И знаете — каков основной пункт предвыборной программы?
— Отнять земли у кибуцев и раздать новым репатриантам, — предположил Сашка.
— Если бы! Основной пункт — освобождение Израиля от коренных израильтян.
Все дружно ахнули, посмаковали, полюбовались этой изумительной идеей.
— Да-да, у него все записано. Точно не помню, но смысл таков: только эта Великая алия, в основе своей антиизраильская, которая в гробу видела это идиотское государство со всеми его идеалами, только она способна вытащить страну на новые рубежи. Это ее последняя надежда. Все предыдущие волны репатриантов не стоили ничего, и ничего не добились только по одной причине — они не стали в конфронтацию к обществу и государству.
— И что ты ему прописал? — спросила писательница N.
Тут появилась Ангел-Рая с очередной сушеной воблой. Ангел-Раю всегда сопровождает по жизни стайка сушеных вобл. И тут вот такая Любочка Михална, так ее и называла своим жалобным колокольчиковым голоском Ангел-Рая.
Под Любочку Михалну предупредительный Сашка немедленно подставил стул. И сначала все подумали, что вечер испорчен. Такая себе педагог с тридцатипятилетним стажем, разговаривает директивным тоном классного руководителя. И вот этим тоном она и говорит — мой внук, говорит, один из самых знаменитых сутенеров Голливуда. Профессия, как вы сами понимаете, не для слабонервных…
И все они: и Сашка, и Доктор, и остальные — восторженно с бабкой согласились, а Доктор еще и подмигнул — мол, а старушонка-то в порядке! Спустя минуту выясняется, что старая корова имела в виду профессию каскадера. И вот — от чего зависит настроение писателя: услышала от карги о сутенере-каскадере, записала украдкой в блокнотик — и весь вечер пребывала в дивном настроении…
…Она завернула краны, вылезла из ванны и прямо на мокрое тело набросила длинную и широкую майку старшего сына. Вымахал бугай под два метра, а как был очагом землетрясения в семье, так оно и по сей день. Впрочем, курс молодого бойца — первые несколько месяцев в армии — он прошел благополучно, без истерик и взбрыков, обычно сопровождающих каждое его действие. Уверял даже, что он — лучший ночной стрелок в роте.
— Что значит — ночной стрелок? — насмешливо спросила мать (это было месяца через два, как сын ушел в армию, она уже попривыкла и спала без снотворного). — Есть такая опера — «Вольный стрелок», есть, опять же, такое удобство — ночной горшок. Но смешивать два эти ремесла…
Впрочем, ему не привыкать к ее насмешкам.
Из школы его попросили месяца за три перед получением аттестата. Он, как выяснилось, полюбил прогулки по Иерусалиму (занятие, спору нет, познавательное). Выходил из дома в семь утра — как бы в школу, возвращался в четыре — как бы из школы…
Вскрылось все в свое время: звонок учительницы — почему Шмуэль (она говорила «Шмулик», все они здесь шмулики, шлемики, дудики, мотэки. Хотя, как это ни смешно, старшего сына в семье с детства звали именно Шмуликом, он был назван Семеном в честь покойного прадеда Самуила. По приезде сюда домашняя кличка мальчика естественным и гордым образом перевоплотилась в имя, и не в худшее имя великого пророка Шмуэля), почему Шмулик уже два месяца не ходит в школу?
Как не ходит?! Что, где?! Ах, ох!! Да нет, конечно, никаких «ах» и «ох» не прозвучало — она старый боец, закаленный в передрягах, которые всегда в изобилии ей подсудобит этот мальчик. Она выслушала учительницу, роняя только — да, нет, да-да, вот как… — с силой гоняя желваки, как поршни, словно хотела искрошить зубы в порошок.
К экзаменам на аттестат он, конечно, допущен не будет, добавила учительница, ну ничего, он сможет подучиться в армии и там же сдать эти предметы. Ты же знаешь, мотэк, — у нас человека не бросят…
Да, конечно, сказала она, я знаю…